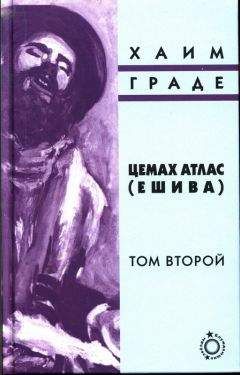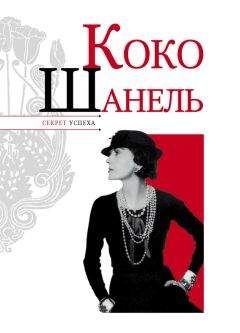Хаим Граде - Цемах Атлас (ешива). Том первый
На летних каникулах Френкель поехал домой, во Львов, и засыпал Славу письмами о том, что последние две недели его свободного времени они обязаны провести вместе в Варшаве. Она поехала в Варшаву и по дороге думала, что, собственно, едет объяснить ему, что они должны прекратить свои отношения: о них уже шушукаются и в Ломже, и в Белостоке. Их поведение скандально даже в глазах людей, свободных от предрассудков. Ее братья — известные торговцы, а она наносит ущерб их доброму имени.
Френкель выходил из себя от злости и отчаяния. Он дрожал всем телом от напряжения после тайных наслаждений с нею, пока и она не заразилась его безумием. Ее соблазняло, что он не может обойтись без нее.
На протяжении двух недель их совместной жизни в Варшаве Слава увидела, какой он нечестный и невыдержанный человек. Она поняла, что учительских заработков Френкеля не хватит и для его семьи во Львове, и для них двоих. Она всучила ему деньги, чтобы он мог заплатить за гостиницу, за билеты в театр и за вино в винных подвальчиках. Сначала он обиделся, а потом взял у нее даже больше денег, чем она ему предлагала. Веселая и шаловливая по природе, Слава громко смеялась на улице, шумела за едой в ресторанах и дружески разговаривала с официантами. Ведь в этом большом чужом городе их никто не знал, так что ей нечего было остерегаться. Френкель краснел и беспокойно оглядывался, словно появляться с ней в общественных местах было для него наказанием и позором. То, что он нервничал, доставляло Славе удовольствие: ведь его не волнует, что про нее говорят люди и то, что она заставляет страдать своих родных; его волнует только, что подобает, а что нет в отношениях между посторонними людьми. Она также заметила, что с тех пор, как они вместе, у него все чаще случается плохое настроение, и догадалась о причине: он боится, как бы она не потребовала от него развестись с женой и жениться на ней. Боится семейной близости, которая может возникнуть, и уже ждет с нетерпением дня, когда должен будет вернуться на свой пост.
Перед тем как они уехали из Варшавы, Слава сказала, что хочет посмотреть еврейский торговый центр, где можно увидеть хасидов в длинных лапсердаках и маленьких шапочках. Френкель раздраженно ответил ей, что на жидов этого типа он достаточно насмотрелся во Львове и Белостоке. По своему образованию он мог бы стать директором чисто польской государственной гимназии, но, поскольку родился евреем, вынужден быть учителишкой в еврейско-польской гимназии в грязном Белостоке. При расставании Френкель снова был в хорошем настроении и строил планы, как они со Славой на зимних каникулах встретятся в Кракове. Они будут гулять по Старому городу, по заснеженным садам, посещать музеи, часовни Вавеля[44], сидеть в маленьких кафе со старыми полотнами на стенах.
Однако на обратном пути в Ломжу Слава думала о том, что должна порвать с ним. Она больше не любит его, и кто знает, любила ли когда-нибудь. И все же она чувствовала, что, поскольку они были близки, ей будет трудно с ним расстаться. Для нее оказалось большим потрясением, что она далеко не так легкомысленна, как о ней думали ее родные и она сама. Слава знала, что единственный человек, который может помочь ей выпутаться, — это ее брат Володя. Он очень любит ее, а из-за него и невестки не говорят ей дурного слова. Она поговорила с братом, и он выслушал ее, наполовину отвернув лицо, как будто он разговаривает с купцом и одновременно присматривает за магазином.
— Ты должна с ним порвать, — коротко ответил он.
Вместо того чтобы говорить что-то против гимназических учителей, Володя привел в дом занимающегося изучением Торы Цемаха Атласа. Слава сравнивала этих двоих мужчин, пока не сказала со злостью в полный голос:
— Бернард Френкель — мелкий человечишка.
Когда Цемах Атлас снова пришел, мадемуазель Ступель радостно бросилась ему навстречу и вложила свою мягкую ручку в его ладонь. Она осталась недовольна его рукопожатием и сказала, что он пожимает руку так, словно у него парализованы пальцы. Он взглянул на ее протянутую руку со страхом и любопытством, словно перед ним открылся некий новый и прекрасный, но в то же время запретный мир, и всей пятерней так сжал ее ручку, что она даже вскрикнула от боли. При этом у нее было такое чувство, словно он своей ладонью закрыл не только ее ладонь, но и все ее обнаженное тело.
Вдруг он опустился в глубокое кресло и застонал. Она застыла в растерянности: он все еще так набожен, что прикосновение к женщине рассматривает в качестве преступления?
— Я уже жених, жених одной девушки из Амдура, — стонал он со страдающим лицом назорея, видящего, что он не выдержал испытания.
Слава рассмеялась тихо и тоскливо. Френкель не рассказал, что у него есть жена, и мусарник тоже не рассказал ей, что уже помолвлен.
— Вот и хорошо, вы поженитесь, — сказала она.
— Ничего хорошего, сразу же после помолвки я узнал, что меня одурачили, — и он принялся рассказывать, чего наслушался о своем будущем тесте. Мадемуазель нетерпеливо перебила его, сказав, чтобы он ничего ей не рассказывал, потому что она ничего не хочет знать. Слава даже скривилась от отвращения, вызванного тем, что ей снова приходится выслушивать историю, похожую на ту, что ей рассказывал Френкель, постоянно жаловавшийся на свою жену. Цемах посмотрел на нее удивленно и пришибленно. Однако тут же ему самому стало противно вздыхать, как одураченному лавочнику.
— Вы правы, — прекратил он свои жалобы. — Я поеду в Амдур и женюсь.
Слава увидела, что он действительно собирается это сделать, что он не пугает. Вместо того чтобы ответить, что она не даст ему уехать, она перепорхнула комнату и прижалась к нему так, словно укутывалась в его тело и одежду, скрываясь от бури с дождем. Сама не зная, почему это делает, Слава немного отодвинулась от него, посмотрела ему в глаза и улыбнулась. Наконец она поняла, отчего он всегда так печален. Ему сосватали неудачную помолвку, его одурачили. Ведь он же не Френкель! Если бы она не нашла у Френкеля на столе того письма, он бы никогда не рассказал ей, что у него есть жена и ребенок. А вот Цемах сразу же, как увидел, что она ему доверяет, не мог найти себе места, пока не рассказал ей правды.
Глава 8
По вечерам Володя не выходил из дома. Он, полулежа в мягком кресле, подсчитывал наизусть, сколько товара у него на складе, а сколько — на мельницах, сколько денег наличными, а сколько — в векселях. Покончив с денежными расчетами, он любил высчитывать, сколько времени он еще может валяться в кресле, прежде чем заберется в постель и вытянет ноги. Чтобы не приходилось вертеть большой, тяжелой головой с целью узнать, который час, весь его дом был полон часов.
В углу стоял высокий ящик со стеклянной дверью и четырехугольным циферблатом с медными гирьками внутри — «еврейский богатырь». На стене висел круглый циферблат, напоминающий мертвенный лик пожелтевшей луны, а под ним пара цепей с маятником. Эти часы Володя любил сравнивать с болезненным евреем, который все время кряхтит, желая своим врагам остаться на старости лет в одиночестве. На одном столике стоял разухабистый молодец со звонким колокольчиком, а на другом — нечто в никелированной шкатулке. Еще одни часы, на широких коротких ножках, бежали и сопели, как злой бульдог с оскаленными зубами, торчащими из-под приподнятых губ. Вся эта компания звенела каждые четверть часа, а каждый час в квартире начинал играть целый оркестр. Кроме часов со звоном и с боем, на комодах и этажерках стояли и немые часы, квадратные и круглые, плоские и пузатые. В темноте их стрелки и цифры светились таинственным зеленоватым светом. Посреди ночи, идя из ванной комнаты, Володя любил останавливаться рядом со всеми этими циферблатами. Ему казалось, что он смотрит в бездну моря, где живут разные виды светящихся рыб, всякие удивительные многоглазые твари. Хана говорила о своем волосатом муже, что он большое дитя. Однако его старший брат Наум был уверен, что Володя нарочно набрал полный дом часов, чтобы всех свести с ума.
К младшему Ступелю покупатели относились с почтением, а приказчики трепетали от одного его взгляда. Со старшим братом и компаньоном в деле никто особенно не считался, сколько бы он ни кидался на людей и ни кричал. Наум подозревал, что приказчики и покупатели не считаются с ним потому, что Володя дает им понять, что так и следует поступать. Наум постоянно вспоминал об этом за ужином. Он срывал с шеи белую салфетку и бежал в другой флигель ругаться с братом. За ним бежала его жена Фрида — низенькая худощавая еврейка с обеспокоенным лицом, оглушенная криками своего мужа. За ней бежал сын. Этот пухлощекий юноша жевал на бегу и плакал, как ребенок, говоря, что он хочет есть, а мама, кроме закуски, ничего еще и не подала. Наум не слушал причитаний жены, умоляющей его вернуться за стол. Не слушал он и хныканье сына. Он кипятился по поводу того, что граевскому[45] оптовику отпустили товар, хотя он велел, чтобы этому злостному неплательщику товар больше в долг не отпускали, а вот купцу из Земброва[46]товар не дали, хотя он, Наум, велел, чтобы ему отпустили товар. Володя позволял старшему брату орать, пока не зазвенят часы. Наум видел, как этот байстрюк со звонками передразнивает его. Никелевая собака на широких лапах набрасывалась на него с лаем. Силач с медными гирьками лупил его, словно молотком, по черепу, а приютский старик с пожелтевшим лицом умолял, чтобы ему дали дышать. Наум чувствовал, как все колеса и пружины крутятся в его мозгу, лопаются в висках. А напротив трясся от смеха большой Володин живот. Наум бросался к выходу и уже из-за порога кричал младшему брату: