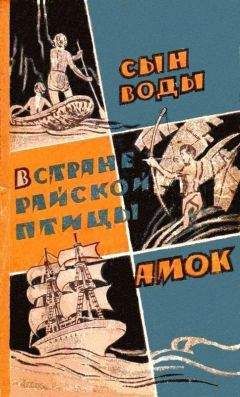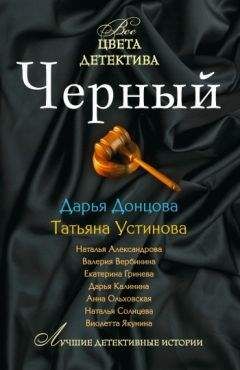Джон Бэнвилл - Море
Когда добрались до дома, я сразу вошел, оставил машину на ее совести, по телефонной книге отыскал номер «Кедров», позвонил мисс Вавасур и сказал, что хотел бы снять у нее одну комнату. Потом поднялся к себе, в кальсонах залез в постель. Вдруг я смертельно устал. Ссоры с собственной дочерью, в общем, только здоровье портят. Я тогда уже перебрался из нашей с Анной общей спальни в пустую комнату над кухней, где была раньше детская и стояла низкая, узкая, почти походная кровать. Я слышал, как Клэр внизу, на кухне, бренчит кастрюлями и сковородками. Я ей не говорил пока, что решил продать дом. Мисс В. по телефону осведомилась, как долго я намерен пробыть. В голосе дрожало удивление, почти подозрительность. Я напускал нарочно туману. Ну, несколько недель, может, месяцев. Томительную минуту она молчала, раздумывала. Упомянула полковника: постоянный жилец, устоявшиеся привычки. Я не стал комментировать. При чем тут полковники? Пусть целый офицерский корпус у себя приютит, мне-то что? Белье, сказала, придется сдавать в прачечную. Спросил, помнит ли она меня. «Да, — был ответ без всякого выражения, — да, конечно я помню».
Услышал шаги Клэр на лестнице. Перестала яриться, шла тяжело, печально. Конечно, и для нее ссоры — тоже зряшное, утомительное занятие. Я оставил дверь приоткрытой, но она не вошла, только вяло спросила в щель, не хочу ли поесть. Я еще не включил лампу, и длинный, острый клин света с площадки падал на линолеум, стрелкой указывая на детство, ее и мое детство. Когда была маленькая, спала на этой кроватке, она любила слушать, как стучит моя пишущая машинка в кабинете внизу. Такой уютный звук, говорила, как будто бы я слушаю: вот ты думаешь; хоть не представляю себе, как звук моих мыслей может хоть кого успокоить, по-моему ровно наоборот. Ах, да когда это было — эти дни, эти ночи. И все равно, нечего было так орать на меня в машине. Я не заслуживаю, чтоб так на меня орали. «Папа, — повторила она, и было, кажется, уже раздражение в голосе, — ты будешь ужинать, нет?» Я не ответил, она ушла. Я живу прошлым, видите ли.
Отвернулся к стене, от света. Согнул колени, и все равно ноги не помещались в кровати. Ворочаясь в путанице простынь — постельное белье вечно меня раздражает, — поймал теплый, сырный, мой собственный запах. До того как Анна заболела, я к своим собственным физическим проявлениям относился с нежной досадой, как обычно люди относятся — конечно, к своим, не к моим — печально неизбежным эманациям тела, выделениям от носа до кормы, перхоти, гною, поту и прочим обычным утечкам, и даже к тому, что Хартвордский бард[10] назвал изящно продуктами низа. Но когда тело Анны ее подвело и она начала пугаться его, его вражеской сути, у меня — тут загадочная связь — развилось мучительное отвращение к собственной плоти. Нет, я не то чтобы постоянно чувствую омерзенье к себе, во всяком случае не всегда его сознаю, но, наверно, оно неотлучно при мне, выжидает, пока останусь один, ночью, ранним утром особенно, — и уж тут на меня накатит, как миазмы болотного газа. И еще меня стали теперь чересчур занимать некоторые процессы в моем теле, неизменные процессы, настырность, например, с какой растут себе мои ногти и волосы, невзирая на мое состояние, на все мои муки. Такая небрежность, такое на все наплевательство в этом безжалостном порожденье материи, которая уже умерла, — вот как живность занимается себе своими делами, знать не зная о том, что хозяин, вытянувшийся наверху на ледяной постели с отвислой челюстью и стеклянным взглядом, никогда уж больше не спустится — не задаст корму, не откроет последнюю банку сардин.
Да, кстати, о пишущих машинках — я ведь ее только что упоминал, пишущую машинку, — вчера ночью она мне приснилась, вернулась ко мне, я хотел отстукать завещание на этой машинке, а она не брала слова Я. Буквы Я то есть, ни прописной, ни строчной.
Здесь, у самого моря, по ночам тишина особого свойства. Не знаю, может, это из-за меня, то есть, может, я сам привношу это свойство в тишину своей комнаты, вообще всего дома, или это местный эффект такой, зависящий от просоленности воздуха, что ли, вообще от морского климата. В детстве, когда жил на Полях, я ничего подобного не замечал. Она плотная и пустая одновременно, эта тишина. Долго, ночь за ночью, я докапывался, что же она мне напоминает. Это — как тишина комнаты, где болеешь в детстве, лежишь в жару, под сырой, горячей горой одеял, и, как воздух в батисфере, пустота давит на барабанные перепонки. Болезнь тогда — особое место, отдельное место, куда больше никому нет доступа, ни доктору с бросающим в дрожь стетоскопом, ни даже матери, прикладывающей прохладную руку к твоему раскаленному лбу. Вот и сейчас я, по-моему, в таком же примерно месте — далеко-далеко ото всего, ото всех. Но, кстати, в доме есть и другие люди, мисс Вавасур, полковник, спокойно храпят себе, а может, вовсе они не храпят, лежат без сна, глядят в свинцово-сизую тьму. А может, думают друг о друге, уж у полковника-то определенно виды на хозяйку, уверен. Она, правда, за спиной посмеивается над ним, не без нежности, называет Полковник Без Полка или Наш Храбрый Вояка. Бывает, утром у нее красные глаза, как будто плакала ночью. Может, корит себя за то, что случилось, до сих пор горюет? Каким утлым сосудом печали, судном печали мы плывем по глухой тишине сквозь осенний мрак.
Ночью — вот когда я особенно думал про Грейсов, лежа на узкой железной койке на даче, под открытым окном, слыша монотонное, ровное буханье моря, сирый бессонный крик чайки, редкий свист дергача вдалеке, а то свингующий всхлип джаз-банда на последнем медленном вальсе в гостинице «Гольф», и ссоры отца с матерью рядом, за стенкой, — они вечно ругались, думая, что я сплю, тихо шипели друг на друга, каждую ночь, каждую ночь, пока в последнюю ночь отец не ушел от нас и больше не вернулся. Но это было зимой, уже потом, уже совсем в другом месте. Чтобы не вслушиваться в их слова, я сочинял драмы, в которых спасал миссис Грейс от великой, губительной катастрофы, от кораблекрушения, от опустошительной бури и в видах безопасности ее прятал в пещере, кстати сухой и теплой, и там в лунном свете — вот лайнер прошел, шторм утих — я нежно помогал ей сдернуть липкий купальник и махровой простыней укрывал светящуюся наготу, и мы ложились рядом, и она склоняла голову мне на плечо и благодарно дотрагивалась до моего лица и вздыхала, и мы засыпали вместе, она и я, убаюканные нежной, просторной ночью.
В то время меня сильно занимали боги. Я не про Бога с большой буквы, я про богов вообще. Точней, про самую идею богов, про возможность их существования, что ли. Я был заядлый книгочей и довольно сносно знал греческие мифы, хоть и трудновато было уследить за персонажами ввиду частоты перевоплощений и множественности перипетий. Я их поневоле себе представлял вполне стилизованно — полуголые гиганты, литые мускулы сплошь, грудь колесом, — исходя из работ великих мастеров итальянского Возрождения, Микеланджело в частности, — я, разумеется, репродукции видел в журналах и книгах, я же вечно охотился на образчики голого тела. И, конечно, эротические подвиги небесных созданий особенно чаровали мое воображение. От одной мысли об этой тугой, туго трепещущей плоти, ничем не прикрытой, кроме мраморных складок плаща или небрежной газовой дымки — небрежной, но досадно блюдущей скромность, как махровое полотенце Роз или, да, как купальник Конни Грейс, — моя неопытная, но уже перегретая фантазия ударялась в любовный бред о шалостях, об изменах, побегах, ловитвах и трудных победах. В деталях тех схваток в золотой пыли Греции я не вполне разбирался. Воображал, как содрогаются смуглые стегна над бледными чреслами, как те уклоняются, даже сдаваясь, слышал стоны восторга и нежной муки. Механика самого акта решительно не давалась моему пониманию. Однажды, бродя по колтунным тропинкам Отвала — как называлась узкая лесистая полоса между берегом и полями, — я чуть не споткнулся о парочку, сцепившуюся под плащом в неглубокой песчаной ложбинке. От их усилий плащ сполз, прикрывал головы, а не низ, а может, они так нарочно устроились, предпочтя прятать лица, как ни крути куда более опознаваемые, чем зады, и от этого вида — бока мужчины ритмично напруживались между приподнятыми, широко раскинутыми ногами женщины — что-то набухло, заскочило у меня в горле, и в какой-то панике от омерзения кровь прилила к сердцу. Так вот, я подумал, или это кто-то подумал за меня, так вот чем они занимаются.
Любовь у взрослых. Было дико представить: бьются на своих олимпийских ложах во тьме, и только звезды одни видят, что они вытворяют, как пыхтят, задыхаются, выдыхают ласки, вопят от удовольствия, будто от боли. Но днем-то как же им удается перед собой оправдать эти темные делишки? Вот что меня больше всего поражало. Неужели не стыдно? Скажем, воскресенье — являются в церковь, не стряхнув трепета субботней ночи. Священник с ними здоровается на паперти, — честно улыбаются, лопочут невинное что-то. Женщина окунает пальцы в купель, к святой воде примешивает липкую любовную жижу. Бедра под обеднишним платьем прочесывает ночной восторг. Преклоняют колена, и плевать они хотели на удрученный взор мраморного Спасителя, устремленный на них с креста. После воскресного обеда, с них станется, ушлют детей поиграть, укроются в занавешенном святилище спальни и все проделают сызнова, не ведая, что мой покрасневший глаз не мигая смотрит на них. Да, такой я был мальчик. Точней сказать, во мне до сих пор сидит такой мальчик. Зверушка с грязными помыслами. А-а, будто кто-то устроен иначе. Мы так и не взрослеем. Я, во всяком случае, не повзрослел.