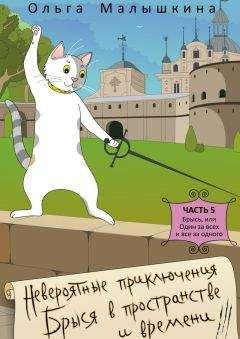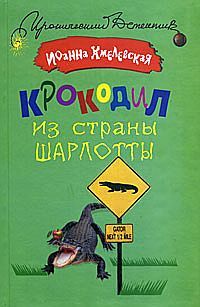Марина Вишневецкая - Брысь, крокодил!
Низкое небо клубилось над жижей проселка, который он месил разбухшими войлочными тапками, бредя неизвестно куда — может быть, в черный лес, сургучом опечатавший горизонт и прочие дали? Как только он из вытрезвителя освободился, кто-то влек его вперед и вперед, будто за шиворот ухватил. Лишь посреди огорода себя обнаружив — ведь в прежней-то жизни век бы его не видеть! — сообразил наконец: мамаша. На помидоры, птицами исклеванные, глядит, почву неперекопанную носком давит, ягодку смородины, бесполезно усохшую, в рот кладет, слезы накатившие рукавом утирает, а в голове вместо мыслей бьется и бьется: «Только не сжата полоска одна — горькую думу наводит она». Потому что, кроме Некрасова, не признавала мамаша других поэтов.
С той поры, что ни час, умудрялась она и без звона о себе весть подать.
Вот, например, в тот же день про Таюшкину кончину Дуся ему в жестоких подробностях сообщила… И что же? На стенку полез? На лестничную клетку без чувств рухнул? Ничуть не бывало. Тихонько вздохнул и подумал кротко: «Что ж ты наделала, Таюшка? Такая, видно, тебе судьба. Видно, нашей судьбе ты теперь не помеха». То есть, конечно, своим умом он до такого бы никогда не дошел — это мамаша мысль ему свою биотоком передала. Но Дусе-то невдомек. Дуся из себя выходит, наводящими вопросами в нем угрызения совести найти норовит.
— Или онемел? Или оглох?!
А он молчит себе, нос хмурит. Потому что как только осознал Альберт Иванович, что мамаша в нем навек поселилась, не человеком — вместилищем себя ощутил, обителью, попросту говоря — домом. Чтоб сквозняков избежать, уши ватою законопатил. А чтоб не погубить мамашу звуками собственного голоса, который, и наружу вырываясь, безудержно дребезжал и не сразу рассасывался, а уж в черепной коробке, резонируя, должно быть, грознее иерихонских труб громыхал, — дал себе Альберт Иванович обет молчания.
— Правду мне мать твоя говорила: «Змееныша я, Евдокия, выкормила!» — Совсем отчаялась Дуся к сердцу его путь найти, платок на лоб надвинула, мусорное ведро подхватила — вниз, на помойку гнилостный дух понесла.
Улыбнулся ей вслед Альберт Иванович, и так подумали они с мамашей: «Дуся ты, дуся». А мамаша еще персонально от себя добавила: «Лучше за Мишкой своим приглядывай, пока не спился вконец и дом наш не поджег!» Потому что и до сей поры редкое неравнодушие к людям имела.
Так и началась — вместе с утренним ледком на лужах, вместе с тучами свинцовыми, белейший снег источающими, — новая жизнь. Ведь вместилищем быть — это совсем не то, что человеком. Как и словами такое объяснить? Что ни день — все труднее вспоминались слова. И события внешней жизни тоже отслаивались, отпадали. Вернее, так: все крошечней делались, потому что сам он в размерах вырастал и вырастал.
Иногда вдруг соседи заходили, еду оставляли, пол мели. О нем, точно о чурке, говорили — уверены были, что не понимает ничего. Потому что не отзывался он на их звуки — вместо слов одни колебания воздуха ощущал.
Поначалу, когда мысли еще имели некоторую внятность, больше всего тому был рад, что перестал наконец-то мелочно разбрасываться: на дудочки, газеты, письма, собачку, женщин — да разве посильно такое одному, если всем сердцем, если без верхоглядства? Конечно, непосильно, потому что самое-то главное и ускользнет. Вернее, из тьмы не выскользнет. А вот если на одной страсти себя собрать, на одном призвании сосредоточить, если зажмурить на остальное глаза и безоглядно вглубь ринуться, словно солнечный луч от света — в сплошную кромешность, может, самое главное наконец и откроется?
И пусть десятки световых лет на пути. И пусть риск огромный. Но если очень повезет, однажды что-то вдруг забрезжит из тьмы, потому что не может быть, чтобы столько усилий души — зря! Будет ли тот свет называться «искуплением вины», или «передовым мировоззрением», или же, наоборот, «эмпиреем», он не знал, знать не мог да и с некоторых пор знать не спешил.
Впереди — сколько хватает глаз — густела тьма. А он был только при начале долгого, нескончаемого пути.
Брысь, крокодил!
Он — Сережа.
Они — Леха и Шурик. Они — все. Все они!.. Им всем сегодня можно. Одному ему нельзя.
Он, Сережа, стоит у подъезда. Они, Леха и Шурик, раскручивают пустую карусель. Доломать ее хотят — не иначе. Ширява и Вейцик — им можно. Им в 16:00 всем можно!
А сделать пластическую операцию и тоже пойти! Чулок на голову натянуть: спокойно, Маша, я — Дубровский! Нет, шоколадку за рубль двадцать расплавить и — на голову: «Я прыехаля к вам Занзибара, дружба-фройншафт!» Маргоша сразу: «Оу, ее, ее, дружба!» — весь первый ряд расчистит и его усадит.
Он, Сережа, стоит на крыльце, и на него не капает. Они же, Ширява и Вейцик, мокнут. Им же хуже. Они карусель раскручивают и орут.
Вейцман:
— Дети! В подвале! Играли! В гестапо!
Ширява:
— Зверски! Замучен! Сантехник! Потапов!
Портфели в кучу листвы побросали. Куча как муравейник. Рыжие листья постепенно заползут в портфели и все там изъедят.
Мы — Сережа, Шурик, Леха. Так было утром и было всегда. Теперь же Сережа — он, тот самый, не для которого. А Ширява с Вейциком — они, все, которым… ГИПНОТИЗЕР! Невозможно, душно — заревет сейчас. Это как всю-всю жизнь ждать Нового года и в щелочку увидеть уже, как под елку что-то большое в шуршащей бумаге для тебя кладут, и в другую щелочку, как бабушка густой заварочный крем с ложки на пупырчатый корж стряхивает, — все это увидеть и без пяти полночь умереть, — ГИПНОТИЗЕР. Это вот как как летом с ангиной два часа в электричке битком, все пересохло до кишок, как в тостере, а мама шепчет: «Потерпи-родненький-приедем-там-собачка-там-девочка-Санна-там-морс-из-клубники-только-потерпи!» И час еще надо на маленькой станции автобуса ждать, где негде сесть и можно только к стене прислониться, зато на ней есть выколупанная дыра «Девочка Санна и ее собачка» — только хвост осталось доколупать, но побелка набилась и больно под ногтем давит, а мама бормочет: «Не-повезло-тебе-с-мамой-больного-мальчика-в-такую-даль-но-если-бы-у-них-был-телефон-понимаешь?» А ты уже в озере плывешь, в котором вместо воды — морс из клубники. И говоришь: «Ладно, про собачку расскажи, она — какая?» И наконец автобус приходит, но очень маленький, и все толкают друг друга мешками и корзинами, никого внутрь не пуская. И когда вы в автобусе — это уже непонятно как. И уже неинтересно про собачку. И всю дорогу, как в дедушкиной игре: по кочкам, по кочкам, по буграм, по буграм, а не смешно, и ты спрашиваешь, забываешь и снова спрашиваешь, много ли у них морса, а вдруг они выпили его уже, а вдруг он прокис, а вдруг там нет никого… А мама говорит: «Ну-что-ты-глупыш-мой-мы-же-за-неделю-уговорились-с-дядей-Борей-он-за-околицей-давно-стоит-нас-с-собачкой-встречает!» А после автобуса надо трудно идти в высокой траве. И дяди Бори нету ни за околицей, ни после околицы, и собачки нету — не лает. И замок на двери пребольшой. «Этого не может быть!» — кричит мама и так кулаком в окно колотит — вот-вот треснет. И ты говоришь: «А может, они морс на крылечке оставили?» А мама не слышит: «Вот скот!» А ты говоришь: «Кто скот?» А мама: «Маленький-миленький! — и целует, целует мокрыми от слез губами. — Прости-меня-господи-ты-боже-мой! Скот — в хлеву. Мычит некормленый!» И вот только тут до тебя доходит: морса не будет, Морзе: точка, точка, тире — папа, спаси нас! — не будет.
Шурик в перекладину впился, по бочонку побежал. Ширява рядом стоит. И орут хором:
— Маленький! Мальчик! Зенитку! Нашел! Ту! Сто четыре! В Москву! Не пришел!
Японочка Казя, как маленькая лошадь, не мигая, косит глазом на обрубок хвоста. Его очень вдумчиво обнюхивает Том, по приметам белый, а сейчас просто грязный болонк. У него было трудное детство — он два раза щенком терялся, и они с мальчишками на велосипедах повсюду объявления расклеивали.
«17 октября. В Актовом зале. В 16:00!»
Сережа три раза проверял, на всех переменах: объявление гипнотизировало само. Отменяло волю и слух. Всех делало лупоглазыми Казями. Даже звонка никто не услышал и как Маргоша откуда-то выросла: «Вам на урок — особое приглашение?!» А Викин папа в Полтаве ходил к колонке полуголый. «Нет в жизни счастья» — это на левом плече было написано. А на правой руке: «Года идут, а счастья нет».
Вшшшшш! — во двор врывается синий «жигуленок», и в первой же луже у него вырастают два больших, шумно опадающих крыла. Во второй луже они вскидываются уже совсем по-лебединому: вшш-ж!
Казина старушка тоже залюбовалась ими и не успела вовремя отбежать.
— Хам! Вы — хам! Хам! Что смотрите? — это она уже Леше и Шурику кричит. — Такими же хамами хотите вырасти? Пионеры называются. Казя, я ухожу! А ты — как знаешь!
Голос ее плачет, усатая губа дрожит. А главное — она истекает грязью и никуда не уходит. Теперь уже Казя нюхает под хвостом у Тома. Ее умное, как у отоларинголога Софьи Марковны, лицо вот-вот, кажется, заговорит и поставит правильный диагноз.