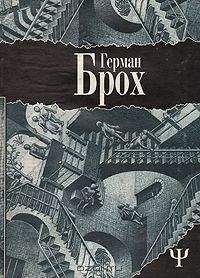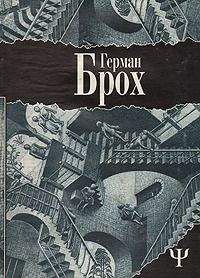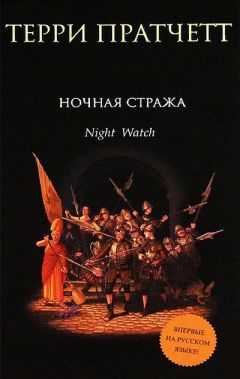Герман Брох - Избранное
Цезарь отстаивает принцип государства ради государства, то есть абсолютизирует его автономную ценность, наделяет ее «бесконечным» содержанием. Держава — все, индивид ничто; она существует не во имя индивида, не во имя совокупного блага индивидов, а только во имя себя самой. «Любовь богов, — наставляет Цезарь Вергилия, — не предназначается отдельному человеку; до него им заботы нет, и смерти его они не знают. Слово богов обращено к народу, непреходящее их бытие обращено к его непреходящему бытию… И если они все-таки отличают какого-то одного смертного, то единственно ради того, чтобы наделить его властью для установления государственной формы, каковая способна была бы внести надежный закон и порядок в непреходящее бытие народа, предназначенное для вечности».
Как бы неожиданно в «высоких» мыслях Цезаря начинает просматриваться сходство с пьяными разглагольствованиями штудиенрата Цахариаса из «Невиновных»: отмеченный богами сверхчеловек, которому в той же мере, что и им, безразлична смерть верноподданных, в сущности, мало чем отличается от «наставника», мастера муштры. Но это и не удивительно. Броховская империя Августа прообраз тоталитарного диктаторского режима. Впрочем, между Цезарем и Цахариасом есть разница, но не в «высоком» и «низком»: просто Цахариас по-своему верит в то, что говорит, а Цезарь нет. Цезарь — чистый прагматик. Клянясь народом, он презирает народ: «Что народ? Он хуже малого ребенка — робок и труслив, когда остается без надзора, опасен в своей беспомощности, глух ко всем увещеваниям, ко всем доводам рассудка, чужд всякой человечности…»
Вергилий — римлянин, человек античного мира. Формы его мышления, вся образность его космических видений зиждутся на языческой мифологии. Его культура — это культура Гомера и Эсхила, всех вообще древних философов и поэтов. Его политическое самосознание вытекает из постулатов основателей Вечного города, строителей империи. В этом смысле он, может быть, даже ближе к Цахариасу, чем к Цезарю. Но он — римлянин, который уже знает, что Рим — не вечен. «Время ни с чем не считается. Август, увещевает он императора, — мысль достигла своих пределов». И, по его разумению, «создания Эсхила вечны, потому что они отвечали задачам его времени…». Сам же Вергилий пытался закрепить своими стихами вневременной Рим, тот, которого не только уже нет, которого никогда не было. И вместо познания действительности возникла голая красота. В этом грехопадение «Энеиды».
Перед нами не отказ поэта служить обществу (что ставит в вину Вергилию Цезарь), а отказ служить ему дурно, поклоняясь фантомам и не беря в расчет историческую обусловленность собственного искусства.
Стоя у границы индивидуального, личностного небытия, Вергилий вдруг ощутил, что весь его старый мир тоже стоит у некой границы, что блестящая «эпоха Августа» лишь миг безвременья, странное затишье между ударами пенных волн мировой истории, момент надвигающегося перехода — словом, «уже нет и еще нет». Цезарь этого не понимает или, вернее, не желает понять, принять: никогда границы Рима не простирались столь далеко, никогда Рим не был так могуществен и так богат, никогда не жил столько лет без войн, никогда в нем так не цвели искусства.
Но вскоре началась медленная, мучительная агония выстроенной Октавианом Августом державы. Менее чем через два десятка лет после кончины Вергилия явился Христос и человечество вступило в новую эру. Прежние духовные ценности оказались перечеркнутыми, верх взяли совсем иные.
Цезарь, разумеется, не мог этого знать (хотя и он уже о чем-то догадывался), но это знал автор романа, Герман Брох. И броховский Вергилий предсказывает пришествие «христианской эры». Он даже предвидит Иисуса из Назарета и его судьбу. «Во имя любви к людям, во имя любви к человечеству принесет себя в жертву спаситель…» Брох, как и средневековые отцы церкви, основывался на 4-й эклоге «Буколик», где в весьма темных выражениях возвещалось о наступлении нового «золотого века».
Ставил ли автор «Смерти Вергилия» перед собой цель идеализировать христианство? Я уже говорил о том, каким неоднозначным и противоречивым было отношение Броха к этому учению и его этике. А после того, как в «Лунатиках» был изображен и обоснован крах христианских ценностей, такую попытку нельзя было бы рассматривать иначе как наивно-утопическую. А наивным Брох не был. Думается, что, прибегая к формам и символам, созвучным всей атмосфере романа, он стремился лишь утвердить мысль о безостановочности исторического движения, о неизбежности смены эпох, о спиралевидном характере человеческого прогресса. И переход от античной эры к эре христианской послужил ему в этом смысле моделью, тем более что ценность неповторимой человеческой личности в процессе этого перехода откровенно и явственно возрастала.
Исчерпав понапрасну доводы логики. Цезарь прибегает к единственному в данном случае ultima ratio regis[2] давлению эмоциональному. Он обвиняет Вергилия в том, что тот его ненавидит, потому что завидует, что сам себя вообразил монархом, что унижает свое дело, чтобы тем самым унизить дело Цезаря, и намерен уничтожить «Энеиду» лишь затем, чтобы Цезарю ее не посвящать. И, растерянный, обескураженный, перепуганный, Вергилий новый, приобщающийся к простой человечности человек отдает «Энеиду» своему другу Октавиану. Она не будет сожжена…
Ему остается продиктовать завещание, дарующее свободу его рабам, и улечься на смертное ложе.
Последняя часть романа самая поэтичная, но и самая «темная». Это — состояние бреда и состояние окончательного прозрения, в котором уже ничто реальное и внешнее до сознания умирающею не доходит. Теперь он несет весь свой огромный мир в себе, то есть, «исправляя» ошибку Джойса, уравновешивает «колоссальный объем нашего времени» объемом «я». Вергилию чудится, что он плывет на каком-то подобии Харонова челна, потом бредет, потому что вода и суша сливаются. Все вообще сливается воедино: он и Плотия, зверье и люди, «все плавучее и все летучее». А в конце Вергилий видит, как замкнулось кольцо времени, и конец его был началом.
«Смерть Вергилия» — это никак не легкое чтение. Живые, взятые прямо из быта картины, как, например, та, что рождается незамутненным воспоминанием детства поэта, редки: «…было это зимой в Кремоне; он лежал в своей каморке, а дверь в тихий внутренний дворик, скособоченная, плохо закрывавшаяся дверь медленно ходила туда-сюда, и это было жутко; снаружи ветер шелестел соломой, которой были укрыты на зиму грядки, и откуда-то, видимо от ворот, на арке которых раскачивался фонарь, ритмично, как маятник, долетал слабый свет». Невольно сожалеешь, что подобные картины редки, — так эта рельефна и одновременно так пронизана чувством необратимости времени. Однако замысел и созвучная ему техника романа требовали по преимуществу иных стилистических форм.
Техника эта состоит в следующем: оттолкнувшись от земли, от материального, чувственного образа, проследить тот след, который он, подобно меченому атому, оставляет — в виде уже претворенном, метафорическом, чисто духовном в сознании и даже подсознании героя. Когда ночью Вергилию стало чуть полегче, он подошел к окну, и на его глазах разыгралась сцена без начала и без конца, вырванная из цепи причинности. Трое. Тощий мужчина, толстый мужчина и женщина. Все пьяные. Непристойные. Между ними шел какой-то нелепый спор из-за денег. Тощий сбил с ног толстого. И общий смех, дребезжащий, неугомонный, дьявольский. Вергилию, который не только все воспринимает через себя, но и все принимает на свой счет, кажется, что эти трое явились как свидетели и обвинители, уличающие его в совиновности. Затем они уходят из его сознания, но остается смех, не их, а вообще смех, «смех, разрушающий реальность». Даже во время беседы с Цезарем Вергилию чудилось, что где-то что — то смеялось, беззвучно и пренебрежительно. Был ли то раб? Или демоны возвещали смехом о своем возвращении?..
Отделившись от конкретного носителя, смех стал катализатором, одним из ключевых слов романа. Их немало «жертва», «судьба», «красота», «клятвопреступление», «огонь», «возвращение на родину» и т. д. Вокруг них по сложным орбитам — эллипсам и спиралям вращаются Вергилиевы мысли. Вергилиевы сны. Вергилиевы видения наяву. Это сближает прозу романа с поэзией. Внутренние монологи героя-поэта полны поэтической лексики, поэтической ассоциативности, поэтических интонаций, подчас даже поэтической ритмики: «О утраченное бытие, невыразимо знакомая чуждость, неневыразимо чуждая знакомость, о невыразимо далекая близость, ближайшая из всех далей, первая и последняя улыбка души в ее серьезности, о ты, которая была и есть все, о знакомая и чуждая…» Цитаты из «Буколик», «Георгик», «Энеиды» сами собой вписываются в такой броховский текст. Но в целом текст этот, конечно, сложнее вергилиевского, по-современному философичнее и по-современному фрагментарнее.