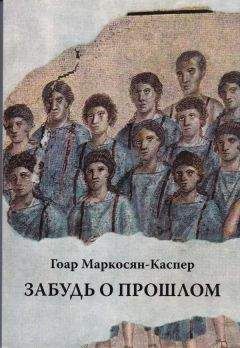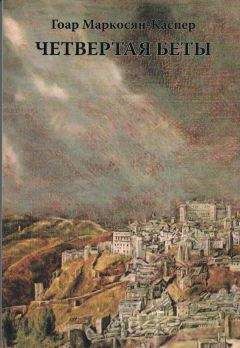Гоар Маркосян-Каспер - Пенелопа
— И тебя бы не было, — сообщила она внимательному льву Мише, — во всяком случае, здесь, на этом диване. Это ведь я тебя купила, если ты не забыл.
Лев не забыл. Он смотрел на Пенелопу понимающе и грустно, видимо, представляя себя валяющимся на дальней полке универмага в пыли и паутине или изодранным в клочья какими-нибудь буйными детьми и выброшенным на помойку… Бедный, бедный Миша-Лева!
Пенелопа схватила льва и прижала к груди.
— Не бойся, — шепнула она в широкое пушистое ухо. — Я тебя никому не отдам. Мы ведь товарищи по несчастью.
Да-да. Страшно подумать, что случилось бы со львом Мишей, если б прабабушка папы Генриха, овдовев, не перебралась с малыми детьми к дальним родственникам, из Карса в Александрополь. Если бы родители деда со стороны отца не переехали туда же из Эрзерума в середине прошлого века. Если б бедная бабушка Пенелопа семилетним ребенком не оказалась ввергнутой в пучину пятнадцатого года, в потоп, в поток, который, крутясь и заворачиваясь по странам и континентам, не донес ее от Константинополя, как его называла бабушка, Полиса, до того же Александрополя. Если б, наконец, отец деда с материнской стороны не отправился на заработки в город, а копал по образцу предков землю в родной деревне. В итоге вся четверка, две бабушки и двое дедушек, собралась в Александрополе, Ленинакане, Помри, но отнюдь не в единую команду, цепочка случайностей на этом не прервалась, их еще раз разметало в стороны, ведь отцовские родители в восемнадцатом году бежали из Гюмри в Тифлис, вернее, бежать успела только бабушка, дед запропастился куда-то и отстал, а бабушка Анаит (тогда еще девятнадцатилетняя красавица Анулик, хороша была бабулечка, слов нет!) втиснулась с младенцем на руках чуть ли не в паровоз, спасаясь от тех же турков, от которых бежала малолетняя бабушка Пенелопа, сама еще не понимая, что бежит. Бежала от окровавленного детства, от исчезнувших в громадном, непостижимом для дрожащей малышки небытии отца и матери, братьев и сестер, бабушек и дедушек, бежала, утратив прошлое, потому что разве можно считать прошлым два-три воспоминания, не воспоминания даже, а их обрывки, лоскутки. Золотые шары апельсинов, клонящиеся к синему морю, словно крошечные закатные солнышки. И огромный турок в сверкающей чалме с кривой саблей — впрочем, чалму и саблю придумала Пенелопа-младшая, старшая о них не упоминала, может, забыла, а может, их не было вовсе, а был в красной феске и с винтовкой плюгавый низкорослый турчишка, рванувший из маленьких девчачьих ушек крохотные золотые сережки. Не очень-то охотно бабушка Пенелопа эту историю рассказывала, наверняка пыталась забыть, но вряд ли сумела б, ведь стоило ей поднести случайно руку к уху или заглянуть в зеркало, как разорванные мочки снова и снова напоминали ей о ее утратах. Бедная бабушка Пенелопа, несмышленое перекати-поле, несомое по свету непонятным ветром. Лишившаяся детства и не успевшая толком состариться. Правда, успевшая сделать главное — породить через промежуточное звено эту удивительную Пенелопу. Пе-не-ло-пу!
— Шла бы ты домой, Пенелопа, — рассеянно запела Пенелопа. — Шла бы ты домой…
Тьфу, черт! Привязалась идиотская песенка, даже не песенка, а одна-единственная строчка, крутится в голове чуть ли не сто лет, с самой школы. Жуткая нелепица. Почему, спрашивается, Пенелопа? Почему не Одиссей? Шел бы ты домой, Одиссей, — это уже ближе к истине. Шел бы ты домой, Одиссей…
Пенелопа встала, усадила льва в его уголок.
— Я пошла, — сообщила она ему решительно.
Она еще раз заглянула в сумку, все ли взяла, не забыла ли полотенце, косметику — надо будет ведь восстанавливать боевую раскраску после купания… Ах, какое упоение! У Маргуши-то не какой-нибудь кипятильник, у нее настоящий водонагреватель, хоть и турецкий, — включаешь, и горячая вода течет прямо из душа. Интересно, случайно ли слово «душ» одного корня со словом «душа»? Душелюб. Это тот, кто любит мыться под душем (Хотела бы я знать, кто этого не любит?). Душегуб. Страшно-даже выговорить — это человек, который забирается в чужие квартиры и портит души. Рвет шланги, выламывает краны. Своего рода Джек Потрошитель. Расстрел на месте без права на апелляцию.
Подумав, Пенелопа прихватила вязанье, пестрый свитер из множества разноцветных клубков, который она вязала без всякого чертежа, по вдохновению. Вязала и порола, когда неудачно сходились оттенки.
— Папа, я пошла! — крикнула она в тишину квартиры и потянула с вешалки скромный нутриевый полушубок нездешнего покроя, носивший в домашнем просторечии забавное, хоть и малоэлегантное, прозвище «крыска».
Глава вторая
На улице была чертова уйма народу. Как на митинге, да не теперешнем, а тех, ушедших времен, вроде и не таких уж давних, но из совершенно другой эпохи, эпохи высокого слога и прекрасных порывов. Мой друг, отчизне посвятим… Мы, народ… Народ, нация, масса, толпа. Вы, жадною толпой стоящие у трона… тут промашка, жадная толпа не те, кто у трона, а те, кого к трону не подпускают, чтобы прорваться сквозь кордоны, они начинают гордо именовать себя народом… народу действительно чертова уйма, чертова… четыре черненьких, чумазеньких чертенка… о господи, вот привязались!
Пенелопа огляделась. Пестрая толпа на остановке пребывала в постоянном движении, составлявшие ее элементы в разноцветных куртках и пальто беспрерывно перемещались, как детали калейдоскопа, непрестанно складываясь в новые и новые узоры, переливаясь оттенками, разве что не блестя на солнце. Солнце и мороз. Мороз и солнце. День чудесный — это с натяжкой, великолепных ковров снега что-то не видать, да и мороз не бог весть какой, но одеты все тепло, намерзшись дома, напяливают все, что имеют, и выползают греться на улицу. Многие в шубах. Конечно, в Ереване не такой завал мехов… Пенелопа вспомнила прошлогоднюю Москву, завешанную шубами, закиданную меховыми шапками, переполненную женщинами, погруженными в норку, песца, лису, козлика, нутрию, кролика, зайца, волка, медведя, — впечатление, что освежевали разом всю тайгу, да и тундру в придачу. Н-да. Пенелопа плотнее запахнула полушубок, хотя под полушубком-то как раз был полный порядок, мерзли ноги в тонких, пусть и шерстяных, рейтузах, и она тоже задергалась, включилась в сложный танец компонентов калейдоскопа. Переместившись па за па на несколько метров выше по склону, она увидела застывший между двумя остановками троллейбус, окруженный недовольными пассажирами, точнее, бывшими пассажирами, а ныне высаженными на необитаемый остров жертвами кораблекрушения, не смеющими оторваться от потерпевшего бедствие судна и вплавь пересечь бушующее море, сиречь трехсотметровый отрезок улицы до верхней либо нижней остановки. Немного дальше, словно выброшенный на берег кит, стоял пустой трамвай с зияющими дверями. Ждать больше не имело смысла, явно нет тока, а в автобус, даже если он вдруг появится, не влезть. Оценив обстановку, Пенелопа бодро вскинула ремешок сумки на плечо и потопала вниз по склону в направлении станции метро, Насколько точен был ее диагноз, она убедилась через несколько минут, когда, трясясь и подпрыгивая на ухабах и провалах в асфальте, ее обогнал автобус, облепленный отнюдь не только мальчишками, — с подножки свисала среди прочих весьма немолодая дама в длинном пальто и непонятно как державшейся на голове шляпке. Дама была примерно Клариного возраста. Пенелопа глазом не моргнула, она и не такое видывала, ей не раз случалось пресекать лихачество матери, за последний год возымевшей привычку кататься на подножках наподобие какого-нибудь сорванца… недаром в детстве она слыла грозой школы, заводилой всех не вполне девчоночьих проказ…
В метро, против ожиданий, Пенелопе удалось даже не протиснуться, а войти и относительно комфортно расположиться на эскалаторе. В вагон ее, правда, пропихнули, словно какой-нибудь негабаритный сверток, напиравшие сзади развеселые ребята, наверняка студенты, которым еще не успело осточертеть свободное время, подаренное войной, зимой и министерством высшего и всякого прочего образования. Те же ребята могучей волной вынесли ее на перрон, протащили до эскалатора и там предоставили самой себе, что пробудило в Пенелопе мимолетную тоску от утраты свежеобретенного чувства локтя.
Выбравшись из вечного скопища торгующих, ожидающих, курящих, жующих, фланирующих людей у «Еритасардакан», Пенелопа пересекла сквер и свернула на тихую, как поэзия, улицу Теряна. Какое-то время она меланхолически размышляла, пытаясь вспомнить старое-новое (или новое-старое?) название улицы, потом поняла, что у Теряна были-таки немалые шансы уцелеть, пусть он и затесался под конец жизни в компартию и чуть ли не комиссарил или наркомствовал, что само по себе, конечно, удивительно, более того, уму непостижимо — тоска, томление, грезы в полумраке и вдруг большевизм? Автор уникальной строчки «Ашнан мэшушум шэшук у шэршюн» и коммунистический ор, шум, пальба? Невероятно. Шэшук у шэршюн, шаль Шушан… мысли Пенелопы перескочили к предмету, «теряновское звучание» которого по неизбежной ассоциации всякий раз за шелестящими стихами злополучного поэта (в смысле, заполученного злом поэта) вызывало из небытия прабабку Шушан, умершую почти тридцать лет назад, но оставившую в семье памятку — шаль деревенской пряжи и домашней вязки, бурую, выцветшую, изъеденную молью, но чудодейственную: всяк болящий в доме спешил завладеть ею и повязать на больное место, что практически гарантировало выздоровление. Шаль Шушан, шэшук у шэршюн, да, Терян, пожалуй, уцелеет, большой поэт, к тому же свой, армянин, не какой-нибудь Чехов, бюст которого снесли с пьедестала перед школой, где училась Пенелопа, неведомые хулиганы, немедленно и решительно осужденные и охаянные… да, но кто слизнул фамилию этого самого Чехова из названия школы? Какая корова поработала своим шершавым языком над черной с золотом доской у входа, а заодно над всеми документами в министерстве, горсовете и иных заповедных местах, куда коров, как известно, не пускают, там ведь не пастбище, во всяком случае, пастбище не для коров, коровы для подобных пастбищ недостаточно длинноухи… хи-хи! Бедные длинноухие, с кем их только не путают, а они такие очаровашки, особенно малыши! Несколько лет назад Пенелопе довелось увидеть на деревенской улочке пару крошечных ослят, так она визжала, стонала и всячески исходила восторгом еще полчаса после того, как малолетние, вернее, маломесячные, почти игрушечные ишачки исчезли за поворотом, — видение это было самым что ни на есть мимолетным, из окна автомобиля, вообще деревню как таковую Пенелопа знала лишь сквозь автомобильные стекла, ну выходила, естественно, пару раз, чтоб заглянуть в сельский магазинчик, ведь в благословенные советские времена в деревне иногда можно было купить вещи совершенно неожиданные, от богемского хрусталя до финских сапожек, но магазинчик еще не деревня… Ну а что, собственно, еще в деревне делать? Родственников нет, друзей, само собой, тоже… само собой — это, конечно, снобизм, но… Возникшая в какой-то момент мода на деревенские корни не обошла и Армению, однако Пенелопа тяги к почвенничеству не испытывала никогда, она была горожанкой по рождению, воспитанию и происхождению, наполовину уж точно, с отцовской стороны, да и с материнской дед с бабушкой хоть и появились на свет в деревне, но выросли в городе. Бабушка Пенелопа прожила в сельской местности под Константинополем («Моя бабушка из-под Константинополя», — небрежно сообщала Пенелопа, когда где-нибудь в Москве или Питере интересовались ее родословной) семь лет, на два года больше, чем ее будущий муж, которого неизмеримо менее бурная планида забросила в город пятилетним мальцом. Краткость личного крестьянского стажа, впрочем, компенсировалась крепостью корней, подпитывавших ствол неплохой карьеры, которую сделал вывезенный из деревни дед. Правда, он не пошел по проторенному пути советских крестьянских сыновей и не стал маршалом Красной Армии, но зато долго и с успехом подвизался на ниве то ли просвещения, то ли снабжения… подобный разброс представлений о собственном деде был обусловлен тем печальным фактом, что дед умер до рождения внучки, а Пенелопа, ведомая по жизненной стезе исключительно личными симпатиями и антипатиями, склонности к генеалогии не питала и в семейную историю не углублялась, ограничиваясь знакомством с ее фрагментами, случайным набором бессистемных сведений… Со вторым дедом она недолго, но сосуществовала, помнила — весьма смутно, а может, и по рассказам — ярко-голубые глаза, залатанные на коленях штаны, протертые до дыр любившими сиживать на этих коленях внучками, преимущественно sister, естественно, но чуточку и Пенелопой, и красивые руки с тонкими пальцами, что не странно, совсем не мозолистыми, а это странно, потому что дед был сапожником. Сапожником, когда-то не простым, а возглавлял сапожный цех, получая зарплату в полтора раза большую, чем тогдашний министр, почему и удостоился прозвища «Полтора наркома», но с поста своего был смещен в достопамятном тридцать седьмом — всего лишь смещен, за что мог бы возблагодарить господа, если б в оного верил, но верил он вряд ли, ибо в дореволюционные еще времена по молодости лет подался в большевики, ратовал за правду и справедливость, но когда эта самая справедливость (а вернее, то, что под ней понимали большевики, не говоря уже об их трактовке правды) оскалила хищные белые зубы, дед не сдюжил, как ни удивительно, но был он человеком с нежной душой и трепетной совестью и, увидев, как радетели народные расправились с якобы дашнакским восстанием двадцать первого года, кинул в сердцах партбилет на стол и с того дня лишь хладнокровно наблюдал за стремительно идущими в гору братьями по партии, на уговоры восстановиться в передовом отряде отвечал неизменным отказом и в итоге неожиданно оказался вне списков, когда от волков и друзей остались одни белеющие в чистом поле косточки и на стол — под острыми, очень острыми соусами — стали подавать самих товарищей. Ближайший дедов друг за двадцать послеоктябрьских лет достиг высот власти (умудрившись, как неистово утверждал дед, остаться человеком честным), за что и (то ли за первое, то ли за второе) был расстрелян без суда и следствия. Дед, призванный в бдящие органы, дабы быть допрошенным в качестве друга врага народа и подписать соответствующее отречение, не долго думая схватил табурет и запустил в следователя, идея отречения, надо полагать, понравилась ему еще меньше, чем Николаю Второму. В следователя он не попал, но, несмотря на это (или благодаря этому, в непонятную ту эпоху иногда все выходило наоборот), отделался легким испугом, а именно, был уволен с работы, после чего все семейство держало зубы на дальней полочке годик или вроде того, пока наверху не объявили переигровку, разоблачили какую-то «…овщину», и деда снова взяли на работу, только уже не главным, а рядовым. Шить сапоги хуже разжалованный дед не стал, а был он мастером знаменитым, ходила то ли легенда, то ли быль о том, что в восемнадцатом году при последнем наступлении турок на остатки армянской нации угодил дед к ним в плен, и некий турецкий военачальник, прослышавший о его талантах, предложил деду простой обмен: голову на сапоги. То есть дед шьет (тогда, кстати, он был никаким не дедом, а высоким, красивым мужчиной в цвете лет, на которого оглядывались женщины даже в Армении, где им по сей день предписывается при виде лица не их пола опускать глаза долу) военачальнику, по-ихнему паше, сапоги, а паша отпускает деда на все четыре стороны. Разумеется, коли доволен. Коли нет — голову долой. Какие сапоги сшил дед паше, не видел никто, но самого деда видели многие на протяжении еще сорока лет, и это доказывает, что турки ценили ремесло больше, чем Советская власть. А ведь именно Советскую власть отправился устанавливать отпущенный турецким пашой дед, в ту пору еще свято веривший в глубоко ошибочное-учение Маркса. Ошибочное, поскольку воздвигнутое на неверной предпосылке. Наивный, как все кабинетные ученые, основоположник никак не мог вообразить, что его драгоценный пролетариат — самый короткоживущий класс на свете, обреченный на вытеснение из производства и жизни автоматами, в недалеком будущем уже несуществующий, а следовательно, совершенно неспособный быть носителем прогрессивного начала, ибо кто же добровольно выстроит такое будущее, в котором ему самому нет места? Наоборот, он будет этот прогресс тормозить, упираясь обеими, а то и всеми четырьмя ногами, как он, в сущности, и поступает по сей день. Осознавший ошибочность любимого учения дед тормозить прогресс не пожелал, да и к пролетариату его можно бы причислить весьма условно: был он парадоксально интеллигентен, книгочей и романтик, снявший некогда с жены и себя обручальные кольца и пожертвовавший их в помощь голодающим Поволжья… Не было обручального кольца и у бабушки Пенелопы, так что единственной носительницей такового в старшем поколении оказалась прабабка Шушан. Как и единственной в семье носительницей крестьянского начала, с которой Пенелопа побывала современницей — и то фигурально выражаясь, поскольку с ее существованием совпали лишь последних два года прабабкиной жизни, почему и Пенелопа не помнила кур, а кур, согласно семейной легенде, прабабушка Шушан до самой смерти разводила в городской квартире на пятом этаже большого здания в центре Еревана… совсем недалеко отсюда, два квартала… Пенелопа давно уже завернула за угол и шла теперь по Туманяна. Машинально заглядывая сквозь стекла в художественный салон, потом гастроном, она практически дошла до подъезда, в котором на престижном третьем этаже в весьма благоустроенной квартире с бо-ольшими удобствами жила ее лучшая подруга Маргуша — вчетвером в четырех комнатах, в результате сложнейших комбинаций составившихся из полученной от неожиданно благосклонного государства двухкомнатной квартиры, унаследованной от деда комнатушки в коммуналке, где никто не жил, но благополучно прописывались три поколения нуждавшихся в жилплощади членов семьи, из денег папы, связей свекра, ухищрений мамы, поднаторевшей в вопросах обмена так, что она могла б давать консультации маклерам… Тут Пенелопа увидела прямо перед собой «Мерседес» цвета топленого масла или какао с чаем или… какие еще существуют продукты элегантно-экзотического колорита?.. провансальский майонез, сыр пармезан?.. впрочем, эти оттенки Пенелопе как-то не давались, и, поколебавшись, она выбрала более банальный цвет слоновой кости. Ну может, слегка загрязненной от частого ношения на шее в виде бус. Или стояния на буфете в виде семи сакраментальных слонов. Хотя у тети Анны слоны деревянные, а у дяди… ах как жалко, что не Жоры, вышло б так складно — у дяди Жоры слоны фарфоровые, а то дядя Манвел ни с одним материалом не рифмуется, да и тетя Лена… не скажешь ведь: «У тети Лены слоны нетленные»… Из «Мерседеса», заметив, видимо, Пенелопу в зеркальце, выбрался молодой человек… ну если честно, уже и не совсем молодой, лет сорока, просто Пенелопа, почитавшая себя если не юной девушкой, то женщиной, которая выглядит как юная девушка («Я выгляжу на восемнадцать лет», — любила она повторять по поводу и без повода), не могла не зачислять в молодые люди и всех тех, кто был относительно близок ей по возрасту… впрочем, это слабость всеобщая, разве семидесятилетние старушки не называют своих подружек девочками…