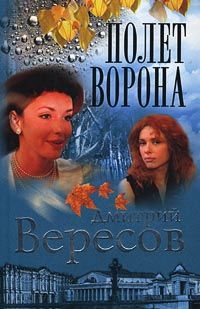Дмитрий Вересов - Летописец
«Уйми свою фантазию, — уговаривал себя Александр Бальтазарович, — и хватит уже психологических экзерсисов. Может быть, все и не так. Может быть, ей нравится, а я навоображал, нагородил с три короба. Другая бы жизни себя лишила, а она — ничего, по ресторанам ходит. Почему бы это, а?»
Но версия о счастливом сосуществовании Марии и Изюмского никак не приживалась в душе у Александра Бальтазаровича, воспитанного на рыцарских романах Вальтера Скотта, на балладах о рыцарях Круглого стола, на истории о Тристане и Изольде. Он обладал гибким художественным воображением, а также логикой человека, знакомого с миром формул, и наблюдательностью ученого. По образованию Лунин был горным инженером, а по призванию, как ему казалось, — артистом в широком смысле этого слова.
Александр Бальтазарович вел двойную жизнь. Недаром он появился в «ХЛАМе» не в военном френче, а в мешковатом костюме-тройке и даже при галстуке. Впрочем, галстук был повязан низко, а верхняя пуговка рубахи расстегнута, что считалось довольно смелым жестом для человека военного. Ни от кого в «ХЛАМе», где у него завелись добрые приятели, он не скрывал своей принадлежности к Красной армии. А в командирских кругах все знали о его пристрастии к изящным искусствам, о том, что он возит с собою ящик с масляными красками в закрученных свинцовых тубах и правдами и неправдами старается пополнять их запас.
Лунин, в свою бытность студентом Санкт-Петербургского горного института, посещал рисовальные классы Академии художеств, благо что от широкой лестницы Горного до храма изобразительного искусства рукой подать по набережной. Он, правда, не стал хоть сколько-нибудь известным художником, он даже рисовать толком не выучился, но страдал, если в течение долгого времени не представлялось возможности вооружиться кистью, а не револьвером, как теперь. И за счастье почитал он в последнее время, если кроме сажи и цинковых белил невысохшими оставались умбра или желтая охра и хотя бы капелька берлинской лазури или кобальта. Он жидко, в целях экономии, разводил оставшиеся краски мутным скипидаром и наносил их на то, что было под рукой (о настоящем холсте, натянутом на подрамник, мечтать давно уже не приходилось): на кусок жести, чемоданную фанеру, старую клеенку, гладкую деревяшку, обойную бумагу.
Этот сор преображался под его рукой. На фанере вскипали кавалерийские атаки: голубые и черные, сильные, как цунами, толстоногие кони с разлохмаченными гривами несли под неспокойным серокоричневым небом охристых всадников со смазанными лицами. На деревянных дощечках он писал портреты товарищей по оружию и дарил их благодарным натурщикам, довольным своими твердокаменными подбородками, пышными усами, стальными глазами и большими звездами на островерхих суконных шлемах. На клеенках получались только цветы и фрукты — плоские, словно из гербария, бурые хризантемы и подгнившие на вид яблоки, обведенные неровным черным контуром. На маленьких кусочках выпрямленной молотком жести рождались пейзажные миниатюры, но пейзажи были неведомых миров, похожих на высохшее дно морское.
Возить с собою все эти произведения не было никакой возможности, и Александр Бальтазарович оставлял их там, где квартировал, или прямо посреди поля, где стояла палатка. Он понимал, что картины его недолговечны, так как живописная техника была неправильной и просто даже варварской. Однако один из его небрежных бивуачных натюрмортов, неяркий и с частично вывернутой наизнанку перспективой, попал к художнику Осьмеркину из «Бубнового валета», и тот окантовал его и повесил на почетном месте в своей мастерской и рассказывал приятелям о неизвестном авторе, которого хорошо бы найти и принять в их авангардное братство. Натюрморт — ветка полыни и чертополох в смятом ведерке — вскоре, к несчастью, потемнел, пересох и осыпался свернувшимися чешуйками, клеенка, на которой он был написан, потрескалась и разлезлась. А художник так и остался неизвестным авангардному братству.
Александр Бальтазарович и стихи сочинял. Такие стихи, конечно, не стоило публиковать, дабы не позориться, но их вполне можно было читать майской ночью барышням под высоким кустом пахнущей кондитерской персидской сирени, когда в небесах висит густая сливочная луна. Барышни после чтения подобных стихов становятся податливыми и обычно позволяют себя поцеловать. А далее. А далее — молчанье, как пелось в игривых куплетах старинных водевилей. А далее — как повезет.
* * *Лунин, революцией мобилизованный и призванный, как и многие молодые люди его поколения, в отличие от многих оказался хорошим организатором и смелым воином. Поэтому к своим тридцати годам он готовился стать командиром дивизии. После взятия Киева полк Лунина остался в городе. Александр Бальтазарович ожидал повышения, и пока неясно было, что последует за этим повышением: останется ли он в Киеве, отправят ли его к неспокойной польской границе или против Врангеля в Крым, к Перекопу. Перекоп уже штурмовали, но его не удалось взять с налету.
По сравнению с походными неурядицами, тяжелыми боями, потерями служба в Киеве казалась отдыхом: была не в пример спокойнее и сытнее. Появилось немного свободного времени. Лунин, в течение долгих месяцев мечтавший о досуге, чтобы посвятить его занятиям живописью, даже и не вспомнил о своей мечте. В свободные часы он бродил, напрасно надеясь на встречу с Марией, и ругал себя, понимая, что уподобился романтическому подростку. Но ничего не мог с собою поделать. В «ХЛАМе» Мария больше ни разу не появлялась, где она живет, он не знал.
Собственно, встретить-то ее оказалось легче легкого. Нужно только зайти в ЧК, где приходилось бывать по долгу службы, и заглянуть под лестницу, в каморку письмоводителя. Там чаще всего и сидела теперь Мария и копировала какие-то бумаги за одним столом с бывшим аптекарем Гинцманом, который тут же деликатно испарялся, как только Лунин заглядывал в дверь, — дуэнья из старого Наума получилась никакая.
Александр Бальтазарович, из побуждений деликатности опасаясь расспрашивать Марию о чем-либо, рассказывал ей о себе. О том, что на самом-то деле он человек глубоко штатский, но любит перемену мест и не очень любит толпы человеческие. Поэтому его и потянуло к занятиям геологией. Он рассказывал ей, как после окончания института служил в Геологическом комитете в Петербурге и два года руководил съемочными работами за Уралом.
— Съемки, Мария, — это болота и бурелом, это пешком, а если повезет, то на лошадях, два десятка верст в день. Это заплечные мешки или вьючные ящики с образцами — каменным материалом, который нужно описать на месте, доставить в Петербург, разобрать там, подвергнуть анализу и определить, какие минералы складывают кусок породы. Вам не приходилось ли в гимназии смотреть в микроскоп на шлиф — тончайший срез камня? Тогда вы не представляете, насколько он прекрасен. Куда там стеклышкам в калейдоскопе! Пусть даже камушек серый, но сколько в нем оттенков! Художник во мне всегда наслаждался этим зрелищем.
— Вы и вправду художник, Александр? — интересовалась Мария.
— Я плохой художник, неумелый. Но все же повсюду таскаю с собой этюдный ящик и пишу при случае. Кто испытал сие (я имею в виду работу с красками), тот пропал. Талантлив ты, нет ли, художество затягивает. Так же как сочинительство, рифмоплетство.
— Вы хотите сказать, что сочиняете?
— Бывает, — покраснел честный Лунин. — Но сочиняю я еще хуже, чем рисую. Просто стыдно, что проговорился.
— Прочтите, Александр Бальтазарович, — умоляла Мария.
— Маша, вы смеяться станете.
— Да не стану я смеяться, клянусь чем угодно. Я за счастье почту.. — уверяла Мария и добавляла тихонько: — При моей-то жизни. Ну, пожалуйста.
И Лунин решался. И срывающимся голосом, отворачиваясь и морщась от редко посещавшего его в присутствии барышень и дам смущения, декламировал вирши:
Все вокруг так пестро и шумно,
Но напрасно толпа весела,
Без тебя я тоскую безумно,
Ты улыбку мою унесла.
Только изредка темной порою
Тяжко скучного дня
Нежный облик встает предо мною,
И ему улыбаюсь я.
Маша со всей возможной искренностью хвалила непритязательное творение, воистину образчик рифмоплетства, и просила читать еще.
— Ну хорошо, — соглашался Александр Бальтазарович, лихой комполка, и читал, словно бы в атаку бросался, сочиненное не далее как вчера под впечатлением последнего свидания с Марией:
Ночь еще и мрак глубок;
Но во мраке жуткого смятенья
Видишь ты и веришь — недалек
Долгожданный праздник пробужденья.
И не будет больше литься кровь.
Сгинет мрак житейского ненастья:
Воцарится на земле любовь —
Светлый праздник радости и счастья.
— Это красиво, — хвалила Мария и складывала ладони на груди в подтверждение своего полного восторга, — оч-чень, очень красиво и тонко, Александр. Вы по-настоящему талантливы.