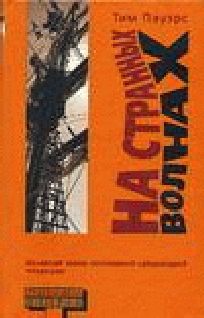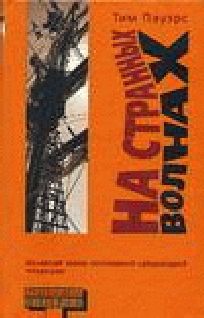Верхний ярус - Пауэрс Ричард
Мими удерживает ее взгляд, впитывает всю боль, какую может. Утешить невозможно. Они соединились глазами — и уже не могут отвернуться. Мысли выпотрошенной женщины вливаются в Мими через расширяющийся канал — мысли слишком большие и медленные для понимания.
Ник стоит неподвижно, глаза закрыты. Дуглас бросает пакетик на землю и плетется прочь. Небо вспыхивает в ярком отрицании. В воздухе раскатываются два новых взрыва. Оливия вскрикивает, снова ищет глаза Мими. Ее взгляд становится свирепым, цепляющимся, словно отвернуться — даже на миг — хуже самой страшной смерти.
На окраине ада появляется третий. Вид Адама — настолько раньше, чем ожидалось, — снова заводит Ника.
— Позвал на помощь?
Адам смотрит на пьету. Отчасти он словно удивлен, что драма еще не закончилась.
— Помощь будет? — кричит Ник.
Адам не отвечает. Всеми силами выкарабкивается из безумия.
— Ты, бесхребетный… Дай сюда ключи. Дай сюда ключи!
Художник бросается на психолога, борется с ним. Только звук его имени в устах Оливии удерживает Ника от насилия. В миг он рядом с ней на земле. Оливия уже с трудом дышит. Лицо сжато кулаком от боли. Анестезия шока идет на убыль, девушка извивается и задыхается.
— Ник? — Тяжелое дыхание прекращается. Глаза вдруг большие. Ник борется с желанием посмотреть через плечо, что за кошмар она там видит.
— Я здесь. Я здесь.
— Ник? — Теперь вопль. Она пытается встать, и из-под рубашки вываливается мягкое. — Ник!
— Да. Я здесь. Прямо здесь. С тобой.
Снова одышка. Изо рта сочится протест. Хнн, хнн, хнн. Ее хватка ломает его пальцы. Она стонет, и звук истекает, пока не остается ничего громче огня с трех сторон. Ее глаза зажмуриваются. Потом распахиваются, бешеные. Она смотрит, не зная, что видит.
— Сколько еще?
— Недолго, — обещает он.
Она впивается в него — зверек, падающий с большой высоты. И снова успокаивается.
— Но не это? То, что у нас есть, никогда не закончится. Правда?
Он ждет слишком долго, и за него отвечает время. Она еще борется несколько секунд, чтобы услышать ответ, и затем обмякает для того, что наступает потом.
КРОНА
Лучи северного рассвета озаряют мужчину, который лежит на холодной земле лицом вверх. Голова торчит из одноместной палатки. Наверху колышутся пять тонких цилиндрических стволов: белые ели измеряют скорость ветра. Гравитация — ничто. Вечнозеленые верхушки изрисовывают утреннее небо каракулями. Он раньше не задумывался о том, что каждое дерево ежедневно и ежечасно преодолевает милю за милей — плавно, исподволь. Эти создания все время движутся, не сходя с места.
Человек, высунувший голову из палатки, спрашивает себя: «На что похожи эти верхушки деревьев? На ту игрушку для рисования с зубчатыми колесами, которая позволяет создавать неожиданные узоры из простейших вложенных циклов. На внимающую диктовке извне планшетку доски для спиритических сеансов». На самом деле, они похожи только на самих себя. Они — окончания пяти белых елей, увешанных шишками и гнущихся на ветру изо дня в день. Сходство — проблема, ведомая лишь людям.
Но ели распространяют вести посредством СМИ собственного изобретения. Они говорят иголками, стволами и корнями. В собственных телах записывают историю каждого пережитого кризиса. Человек в палатке лежит, омываемый сигналами на сотни миллионов лет старше его безыскусных органов чувств. И все-таки он в силах воспринимать эти сигналы.
Пять белых елей чертят знаки в синей пустоте. Они пишут: «Свет, вода и горстка щебня требуют пространных ответов».
Неподалеку скрученные сосны и сосны Банкса возражают: «Для пространных ответов нужно много времени. А „много времени“ — как раз то, чего становится все меньше».
Черные ели на друмлине высказываются без обиняков: «Тепло питается теплом. Вечная мерзлота извергается. Цикл ускоряется».
Широколиственные деревья дальше к югу согласны. Шумные осины и уцелевшие березы, тополя и лираны присоединяются к хору: «Мир превращается в форму новую».
Мужчина переворачивается на спину, лицом к лицу с утренним небом. Голова гудит от сообщений. Даже здесь, будучи бездомным, он думает: «Ничего не будет прежним».
Ели отвечают: «Ничто никогда не было прежним».
«Мы все обречены», — думает мужчина.
«Мы все всегда были обречены».
«Но на этот раз все по-другому».
«Да. На этот раз ты здесь».
Надо встать и заняться делом, следуя примеру деревьев. Его работа почти закончена. Он соберет лагерь завтра или послезавтра. Но в эту минуту, этим утром, он смотрит, как ели что-то пишут на небе, и думает: «Мне не нужно становиться совсем другим, чтобы солнце казалось без малого солнцем, зелень — почти что зеленью, радость и скука, страдание, ужас и смерть — сами собой, ничто не потребовало бы убийственной ясности, и тогда это — все это, растущие кольца света, воды и камня — окутало бы меня целиком, и другие слова были бы не нужны».
ЛЮДИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ФОРМЫ НОВЫЕ. Двадцать лет спустя, когда все будет зависеть от воспоминаний о произошедшем, факты той ночи давно давным-давно станут ядровой древесиной. Они положили ее тело в огонь, лицом вниз. Трое это запомнят. Ник не запомнит ничего. Надежный как скала в ту минуту, когда она нуждалась в нем, впоследствии он превращается в ничто и сидит на земле у огня, достаточно близко, чтобы опалить себе брови, сам такой же бесчувственный, как горящий труп.
Остальные кладут ее на готовый погребальный костер, древний, как ночь. Сначала горит ее одежда, потом кожа. Витиеватые слова на лопатке — «Грядут перемены» — чернеют и испаряются. Языки пламени отправляют в полет частички ее обугленной души. Труп, конечно, найдут. Зубы с пломбами, несгоревшие шишковатые утолщения костей. Каждую улику обнаружат и истолкуют. Они не избавляются от трупа. Они отправляют его в вечность.
О том, как они покинули место происшествия, никто не вспомнит ничего, кроме момента, когда затолкали Ника в фургон. Оранжевое мерцание над вечнозелеными лесами, такое же призрачное, как северное сияние. Затем на десятки миль — темные моментальные снимки. В течение получаса они не повстречали ни одного транспортного средства, а пассажиры первой машины, супруги-пенсионеры из Элмхерста, штат Иллинойс, которым оставалось ехать еще пять часов до ночлега, даже не вспомнят о белом фургоне, мчавшемся в противоположную сторону, к тому времени, когда увидят огонь.
Поджигатели молчат, лишь изредка срываясь на крики. Адам и Ник угрожают друг другу. Мими ведет машину, сидя в звуконепроницаемом пузыре. В двухстах милях от Портленда Дуглас требует, чтобы они сдались. Что-то подсказывает им не делать этого. Оливия. Только ее они все запомнят.
— Никто ничего не видел, — Адам сообщает это остальным слишком часто.
— Все кончено, — говорит Ник. — Она мертва. Нам кранты.
— Заткнись на хрен, — приказывает Адам. — Нас никто не сумеет выследить. Просто сиди тихо.
Они вообще ничего не смогли защитить. Они соглашаются, по крайней мере, защищать друг друга.
— Ничего не говорите, что бы ни случилось. Время на нашей стороне.
Но люди понятия не имеют, что такое время. Они думают, это нить, которая возникает позади, за три секунды до, и исчезает так же быстро, через три секунды после, в тумане прямо по курсу. Им невдомек, что время — это растущее кольцо, в котором еще одно кольцо, и оно становится все больше и больше, пока наконец внутри тончайшей оболочки «текущего момента» не оказывается заключена огромная масса всего, что успело умереть.
В Портленде они разбегаются кто куда.
НИКОЛАС РАЗБИВАЕТ ЛАГЕРЬ НА ПРИЗРАКЕ МИМАСА. Ни палатки, ни спального мешка. С наступлением ночи он лежит на боку, положив голову на туго свернутую куртку рядом с кольцом, возникшим в год смерти Карла Великого. Где-то под его копчиком — Колумб. На уровне щиколоток первый Хёл покидает Норвегию, направляясь в Бруклин и просторы Айовы. За пределами его тела, подступая к месту рассечения, видны кольца, засвидетельствовавшие его собственное рождение, гибель его семьи, встречу с женщиной, которая его поняла, научила держаться и жить.