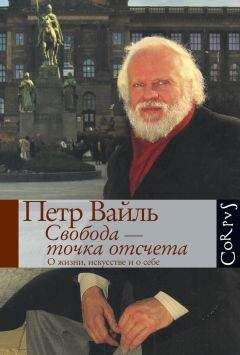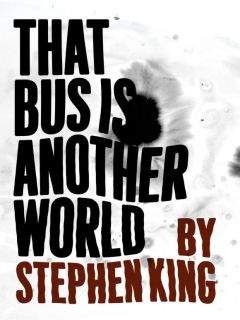Петр Вайль - Гений места
Снаружи кажется, что жить там — как Гаврошу в слоне, но внутри вполне уютно, я бывал. Даже чересчур. В тесный лифт Каса Батло, надивившись на окна в виде человеческих черепов («Не влезай — убьет!»), помещаешься, как в скафандр. В интерьерах Гауди — ощущение собственной угловатости. Только лежать представляется естественным. Может быть, лежать — это вообще естественное состояние: растечься и заполнить округлости, особенно если есть чему растечься.
Сталактитами стекают — а не высятся — дома Гауди. Занятно, что единственную премию в жизни он получил за самое обычное из своих зданий — Каса Кальвет: мимо него, во всяком случае, можно пройти не ахнув. С другими не получается: так на Пассейг де Грасиа, напротив Каса Мила, вечно стоит, разинув рот, толпа.
Иначе и не взглянешь на эту семиэтажную жилую скалу, будто изъеденную ветрами и временем, волнами растущую вдоль бульвара и поперечной Карьер де Провенса. Ни одной прямой линии!
Пока рот раскрыт, торопливо ищешь сравнения: этот дом надо срочно куда-то занести, классифицировать, найти клеточку в картине мира, иначе поедет крыша. Крыша Каса Мила — отдельный аттракцион: трубы, вентиляторы, лестничные выходы — все даже не биоморфное, а антропоморфное. Не то средневековые рыцари, не то арабские женщины в чадрах, не то звездные воины из фильмов Лукаса, не то все-таки монахи в капюшонах — что ближе к образу неистово набожного Гауди. Веет триллером.
Прообраз общего облика Каса Мила обнаруживается: Гауди если не копировал Монсерратские горы, то сочинял фантазию на их тему. В Монсеррат из Барселоны выезжаешь ранним утром, неуклонно забираясь все выше. Приезжаешь, когда все еще в дымке, и перед тобой монастырь как монастырь, где возле торгуют вкусным творогом и всегда вкусным монастырским медом, а внутри чудотворная «Черная Мадонна». Но выходишь в совершенно другое место: будто перемещаешься в иконный фон. Туман сошел, и вокруг оказываются огромные, причудливо закругленные горы, похожие на толпу сидящих, стоящих, лежащих вповалку голых — высоких и толстых — людей. Торчат их колени, плечи, головы, пальцы. Толстяки-нудисты взяли в кольцо монастырские здания, всего час назад казавшиеся большими, а теперь — избушками в горах.
В двух кварталах от Каса Мила, на углу Карьер Валенсия — цепочка совсем иных ассоциаций. В отеле «Мажестик» в начале гражданской войны была штаб-квартира Антонова-Овсеенко, сюда шли приказы из Москвы.
Участие СССР в схватке Республики и Франко, барселонская расправа коммунистов с анархистами, да и вся эта война в целом — требуют объективного описания, на которое чем дальше, тем труднее надеяться. Несомненно правдивая, но написанная по горячим впечатлениям, оруэлловская книга «Памяти Каталонии» — на удивление хаотична и даже бестолкова, точность и прозрачность стиля Оруэлла-эссеиста куда-то исчезают. Понятно куда — в растерянность и отчаяние. Череда предательств и преступлений сбивает с толку очевидца. А нынешнему историку не перешагнуть через табу. Есть такие неприкасаемые темы в новейшей истории: запретная из-за болезненного чувства патриотизма и памяти о миллионах жертв правда о советских партизанах; священная для европейской интеллигенции, овеянная образом интербригад (последний раз призыв «возьмемся за руки, друзья» сработал) испанская трагедия.
Когда в 88-м на окраине Барселоны открывали статую «Давид и Голиаф» — в память интербригад — мэр поехал на церемонию только после долгих уговоров, а журналисты были разные, но не местные. Об этом говорить не принято. У города полно других забот, но никуда не деться от того, что боевое прошлое имеет прямое отношение к нынешнему облику Барселоны.
Придавленность каталонцев кастильской властью искала и находила выход. Впервые ученики Бакунина появились здесь еще при его жизни, а в начале следующего века в полусотнях специальных школ Барселоны тысячам слушателей, среди которых был Сальвадор Дали, преподавались принципы анархизма. В жуткой жажде первенства (лучше всех, хуже всех, не важно, лишь бы «мы — всех») Россия помнит своих бомбистов, но Питеру и Москве далеко до Каталонии. В 1919-1923 годах здесь было 700 политических терактов — то есть практически каждый второй день в течение четырех лет. Анархисты любили это делать в театрах, лучше в оперных — и тут форма исчерпывает содержание.
Радикальность барселонцев проявилась в анархизме низов так же, как в модернизме верхов. И те и другие перекраивали мир, стремясь к прекрасному и новому — одни за деньги, другие за так. Ломать не строить, но все же деньги — как вообще в истории — победили. Революции остались в учебниках, здания — на улицах.
В те же годы, когда в Барселоне бакунинские кружки объясняли порочность государства, местные богачи — новые каталонские — утирали нос государству (читай — Кастилии), перестраивая город с невиданным размахом. Двести километров новых улиц, стройно размеченных на кварталы по сто тринадцать метров в длину. Названия главных магистралей пришли с чертежа: Авенида Параллель, Авенида Диагональ. Должно быть, барселонские школьники успевают по геометрии.
Кварталы этой Барселоны — со срезанными углами. Сначала кажется, что таково остроумное изобретение для удобства парковки, но это придумано за полвека до века автомобильного. Барселонская тяга к отсеканию углов оказалась провидческой: перекресток вмещает на треть больше машин, чем в других городах.
В новых кварталах заурядные дома чередуются со зданиями, украшенными цветным стеклом, пестрой плиткой, гнутым железом, орнаментом из ландышей и нимф. Тут развернулись предшественники, современники, последователи Гауди.
Около тысячи зданий арт-нуво и его извивов в Барселоне, полтораста из них — экскурсионных. В сотнях лавок — интерьеры арт-нуво, в которых замечательно выглядят платья, книги, свисающие окорока. Сам термин, кстати, не искусствоведческий, а торговый — от названия магазина Maison de l'art nouveau.
Арт-нуво — нуво-риши. Каталония была богата на стыке веков, и меценатство здесь считалось патриотичным. Морозов и Щукин скупали Матисса, а патрон Гауди, разбогатевший в Америке, ставший бароном, потом графом, обожатель Вагнера, Эусебио Гуэль давал заработать своим. Гуэлей помельче было множество, и огромные деньги уходили на диковинные замыслы художников (чем в Испании после церковных заказов Эль Греко вряд ли удивишь).
Взрывы, газы, трупы Первой мировой поставили под сомнение гармоничную плавность арт-нуво. В 20-е можно говорить о его полном упадке, и парадоксалист Дали защищал стиль как «исключительно творческий дурной вкус» — как раз в это время они с Бунюэлем изысканно резали бритвой глаз в фильме «Андалусский пес». А Бунюэль в мемуарах пишет об отцовском доме, обставленном и украшенном «в стиле эпохи, который сегодня именуется „дурным вкусом“ в истории искусства и самым известным представителем которого в Испании был каталонец Гауди».