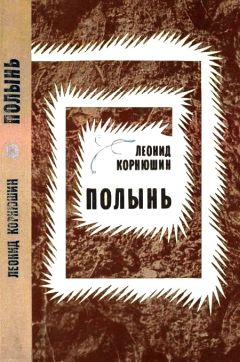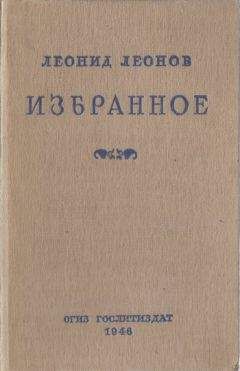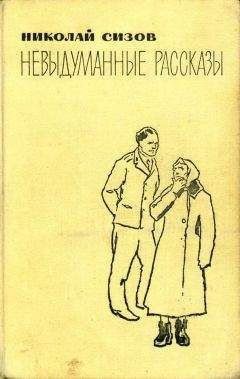Леонид Корнюшин - Полынь
— Что, больно? — спросил он тихо.
— Глаза. Странно, все мелькает что-то.
— Возможно, устали. Закрой. Сегодня скажем врачам.
«Сегодня придут наши. Лена», — радостно и тревожно подумал Григорий, закрывая глаза.
IIЛена держала руку Григория, молча большими глазами смотрела в осунувшееся и далекое, как в раме, его лицо.
Борис молча ерошил волосы, неуклюже ерзал на узеньком, в форме сердца, стуле.
— Как дела, ребята? — спросил Григорий.
— Ремонт заканчиваем, — сказал Борис и взглянул на Лену.
— Дворец культуры открыли, — быстро сказала Лена и мягко, осторожно сжала руку Григория.
Григорий оживился. Дворец! Перед глазами всплыли развороченный котлован, хлюпкая бурая земля, косой дождь, маленькие фигурки людей, экскаватор — и вот теперь стоит в голой пока, ветреной степи дом.
— Спектакль бы там закатить! — сказал Григорий.
— Пустые мечтания, — сказал Битюгин. — Артистов нет.
— Почему вы так считаете? — обиделась Лена. — У нас драмсамодеятельность.
— Прогресс, — засмеялся Битюгин.
Филипыч сказал:
— Ты помолчи, сморчок.
— Я тебе скоро ландышей привезу, — тихо шепнула Лена.
Григорий почувствовал, что ему становится жарко.
— Ну еще не скоро. Еще мороз, — сказал он.
— Что ты, уже весной пахнет! — взволнованно произнесла Лена.
— А мы тут не слышим.
— Ты скоро выздоровеешь, правда. Мы с главным врачом разговаривали, — соврала Лена и покраснела.
— Брось, не надо, — сказал Григорий, поглядев на нее из-под опущенных век. — Не надо! — сказал он строго-повелительно.
И им сразу стало трудно, тяжело и душно, как если бы прекратился доступ кислорода. Григорий понял, что Лена не видела главного врача, просто решила утешить.
— Да не волнуйся, ерунда, заживет, — простуженным басом прогудел Борис.
Красные, большие, похожие на лопаты руки его, не желавшие знать покоя, теребили конец простыни: от них теперь еще сильней запахло соляром, бензином и вообще машиной. Григорий наклонился ближе к рукам Бориса, закадычного своего дружка по степной трудной жизни, чтоб острей слышать запах трактора.
— Твой еще в ремонте? — спросил Григорий.
— Кончаю.
— Граждане, сольцы не имеется? — спросил дед, не спускавший глаз с молодых людей. — У меня яички тухнут.
— Вам соль не положена, папаша, — сказал за дверью голос Фенечки.
— Геройская жизнь, — сказал дед и хихикнул.
Филипыч повел кудлатой бровью, крякнул и отвернулся к стене. Дед почесал под мышкой и тоже отвернулся.
Тихими шагами вошла Фенечка и сказала, что пора уходить. Лена побледнела, округлила глаза и прижала опять свои огрубелые, жесткие, в трещинках руки к высокой груди.
— Ничего. Перемелется — мука будет, — пошутил Григорий.
— Я и говорю, чего хандрючить, — во все необъятные скулы улыбнулся Борис, вставая.
Лена вдруг наклонилась к Григорию, прижалась грудью к его груди, и он почувствовал на своих губах упругую сладость ее горячих, обжигающих губ.
Угарный туман ударил в голову, закружил, смешался с чем-то больным, и он сказал:
— Хорошего понемногу. Пока, счастливо.
— Ну будь, — сказал Борис, легонько пожал руку больного, повернулся и пошел вперевалку на своих кривых могучих ногах.
Лена бесшумно вышла вслед за ним.
Некоторое время в палате стояла тишина. Старик посморкался, покрякал и как-то боком, что-то ища в карманах, выскользнул в коридор. Филипыч свирепо взглянул на него, но, едва закрылась дверь, оплывшее, дрожжеватое лицо его подобрело, помягчело.
— Из одного совхоза? — спросил он, смутно улыбаясь.
— Да.
— Славная дивчина. Кто она?
— Зоотехникум кончила.
Битюгин поскреб ногтями грудь.
— А ты агроном, — сказал он. — Пара как раз…
Филипыч сказал задумчиво:
— Такая, я думаю, не может отмежеваться…
В палату входил тихий полусумрак вечера. Где-то в конце коридора слышались стеклянный звон колбочек и быстрые голоса и шаги. Григорий подумал, что так будет продолжаться всю жизнь, и трудно, первый раз в жизни, скупо заплакал. А в голове, как заноза, вертелись слова, бередя и разжигая:
«Все пройдет, как с белых яблонь дым».
IIIВ степь хлынул теплый южный ветер. Снег почернел и осел. Талая вода взыграла по неглубоким балкам, ринулась она и в городок, неся летошнюю бурую траву и запах только что набирающей силу весны. И по-иному пахла теперь степь: к хмельному горькому духу земли примешивался тянкло-сладкий, духовитый и смутный запах, суливший первую молодую зелень, солнечное тепло.
Степь лежала теперь черно-бурая и разморенная. Весна властно и дерзко перевернула жизнь в Городищенской больнице. Филипыч, несмотря на боль, на плохое свое сердце, трынкал под нос старые революционные песни.
В эти ветреные, полные света дни из палаты исчез старик. Перед уходом, рано утром, он подсел на кровать к Григорию, пощупал его ноги и спросил сердобольно:
— Что, парень, болит?
— Нет, — сухо сказал Григорий. Ему было неприятно присутствие старика.
— Плохо без ножек-то. Были, гляди, бы-ы-стрыя? Эхх! А все горячка. Поколенье новое. А ножек и нету. А баба — чего ей? Баба бегает. Это, бра-а-т, такой у людей корень. Он в нас, в печенках: по русской, значитца, поговорке: что на себя надел, ну, то и ближе. Греет. Натуральный вопрос. Болит… — покачал головой старик, помолчал и, как-то весь преобразясь, заговорил громким шепотом: — Если хошь… я тебе, парень, сушеной травы принесу… Враз сымет, вот те крест, дело испытанное. Доктора-то больше все словами лечут. Оно ясно: тело, может, и знают, а душу не-ет.
— Нет, нет, я не хочу, — быстро сказал Григорий.
— Молодой, — покачал головой старик. — Жить не умеете. Вот оно! У меня есть племяш. Тоже свет мерит не на рупь, а на совесть. А чего, спросить, достиг? Тридцать два года, а ни кола ни двора… Нынче прилип гдей-то в Сибири, город ему, видишь, строить захотелось. И летось строил и позалетось. А жить, спрашиваю, когда?
— Это и есть жизнь, — сказал Григорий. — Кто как понимает.
— Ты парня оставь, Миронов, — тихо и глухо сказал Филипыч. — Тебе пора.
Старик бросил сощуренный взгляд на Филипыча и вскинул на плечо свою сумку с вещами.
— Ну прощайте, жители. Тоже правдолюбец нябось да покоритель. А вот — надел тапочки, и лежи чуркой. Ох, господи, как люди не понимают — спешить-то некуда! Пользуйся жизней, как душа велит, супротив пошел — и кончен. Хорош бы ты был, кабы соломку под других стелил, а то нябось сам ноженки суешь на сухое. Ох-хо-хо! Прости нас, боже, за прогрешенье и дай нам хлебца про черный день. Хлебец-то у тебя нябось имеется про тот самый день, а? Хотя ты и с идеями?
— Прощай, — все так же глухо, несколько веселее сказал Филипыч.
Боком, хороня на лице непонятную им улыбку, старик вышел.
Некоторое время они лежали молча, охваченные одним чувством, — они поддались ласке теплого, чистого, сотканного из золотых игл света, который безудержно и дерзко вливался в два окна. И каждая вещь в палате, серой и скучной, осветилась и заиграла своими особыми, непередаваемо яркими красками.
Луч упал на лицо Филипыча, он крепко зажмурился, вытянулся всем своим большим телом, глубоко и радостно вздохнул, быстро открыл глаза — из них, как прозрачная вода из родника, ударило такое же чистое горячее солнце.
— Скажи, Филипыч, я вот, честно, не понимаю, — Григорий с трудом сел, крепко держась обеими руками за кровать. — И он, этот старик, как и ты, как и другие, тоже революцию делал. А теперь… Ну какой он теперь человек!
— Видишь ли, Гриша… По сути, по нутру он, я уверен, и тогда, молодой, такой вот был. Это, брат, так. В десяти котлах вари — не вываришь. На яблони вырубку сделаешь, время пройдет, вроде молодым, зеленым обросло, а ковырнешь — увидишь след выруба. Тем паче в человеке.
— Кто же ему вырубку сделал? — наивно спросил Григорий.
Филипыч, кряхтя, подправил подушку и после молчания сказал:
— Жизнь. Веками она свои зарубки ставила.
— Тогда хочу спросить: как же мы их выведем? Отец мой и помер с этим, так и не переделался.
— Не знаю, Гришка, когда…
Они, думая, помолчали. В стекло снаружи тюкнул носом воробей. Маленький и растрепанный, но живой серый комочек.
Пришел из коридора Битюгин, от него, как от осьмушки, пахло куревом. Он сел на кровать и стал писать последнее за день, девятое письмо. Когда кончил, посмотрел в окно и спросил:
— В шашки играть будете?
— Я не хочу, — сказал Филипыч.
Григорий молча глядел в окно. Там курилась прозрачным голубым дымом, млела под вешним солнцем, заваливалась за горизонт в своей земной горечи сто раз им самим проклятая и все-таки родная и прекрасная степь.
IVНочью в больничную крышу били мощные раскаты первого грома. В окнах извилистыми плетями вилась молния, потом хлестнул ливень. В палату сразу вползли освежающая влага и запахи молодой, только-только пробившейся травы и земляных, терпких, как хорошая брага, соков.