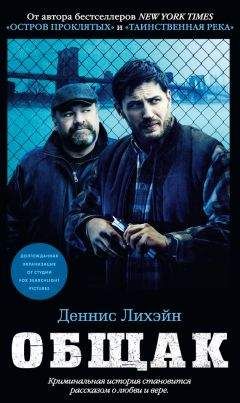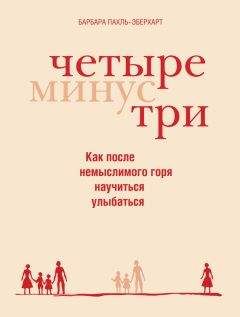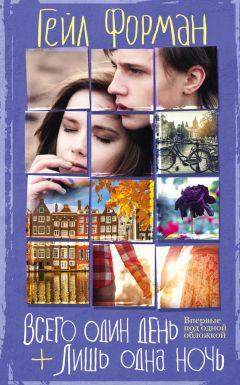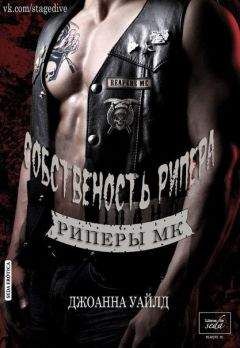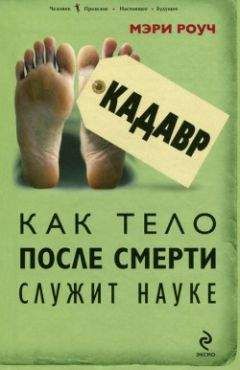Уолтер Абиш - Сколь это по-немецки
Rumkugeln — ромовые шарики.
Schones Wetter, nicht wahr? — Прекрасная погода, не правда ли?
Schwartz — черный.
Sie haben einen schonen Hund — У вас замечательная собака.
Spargel Cocktail mit Hummer — коктейль из спаржи с омарами.
«Тrеие» — «верность».
«Uber die Bewegung alter Dinge» — «Чем движимы вещи».
Unser Deutschland — наша Германия.
Waffen SS — войска СС.
Warum Genf? — Почему Женева?
Weintraubschnitten — рулет с виноградом.
Wenn die Soldaten durch die Stadt marschieren,/offnen die Madchen die Fenster und Turen — Когда солдаты городом идут,/открыты окна, двери у девиц.
Windbeutel — воздушное печенье.
Zwei Kartoffeln, Fieber, eine tote Feldmaus, die ewige Frage… — Две картофелины, горячка, дохлая полевка, вечный вопрос…
ВИКТОР ЛАПИЦКИЙ. 33(28) ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ УОЛТЕРА АБИША
(16) Официальный статус Уолтера Абиша на литературной карте США не вызывает никаких сомнений: ярлык экспериментатора настолько удачно описывает его прозу, что удержаться от него не может никто из пишущих о творчестве писателя критиков. Большие сомнения вызывает само его право на ней находиться: дело не столько в лично-биографических обстоятельствах этого законченного космополита и манхэттенца (о которых — да и обо всем остальном — см. у М. Бредбери), сколько в близости его экспериментов (если и не по форме, то, во всяком случае, по направленности) исканиям авангардной европейской мысли — как в литературе, так и в лингвистике и философии; в каком-то смысле его место на этой карте с поправкой на эпоху схоже с местом Генри Джеймса.
(17) Печатается Абиш с начала 70-х годов, поначалу в основном в издательстве (и альманахе) «New Directions», к тому времени зарекомендовавшем себя цитаделью литературного авангарда в Америке. Первые публикации оказались возможны исключительно благодаря энтузиазму Джеймса Локлина, главы издательства и основного пропагандиста новых литературных идей. Первая (если не считать небольшого поэтического сборника) книга никому не известного автора, роман «Азбучная Африка» (1974), и вовсе писался с оглядкой на мнение — по счастью, почти восторженное — богатого и независимого диктатора литературной моды завтрашнего дня; определенное участие принимал Локлин и в конфигурации двух последовавших вскоре сборников рассказов — «Мысли сходятся» (1975) и «В совершенном будущем» (1977). Все эти книги были в целом очень хорошо приняты критикой (откликнулся, в частности, и маститый Джон Апдайк; в то же время надо отметить неприязненно-скептическую позицию, последовательно проводившуюся в отношении Абиша рецензентами «Нью-Йорк тайме бук ревью» — издания, максимально ориентированного на усредненные вкусы массового читателя). Тем не менее присуждение следующей книге писателя, несколько более традиционному роману «Сколь это по-немецки» (1980), престижнейшей на тот момент в США премии ПЕН/Фолкнер носило характер сенсации: таких премий такой литературе обычно не дают. Результатом подобного прецедента стало беспрецедентное изобилие разнообразных откликов, трактовок, исследований (статей, разборов, диссертаций), посвященных роману, что частично объясняется и его политическим измерением. Следующие книги Абиша: сборник «переоркестровок» чужих текстов «99: новое значение» (1990) и достаточно традиционный роман «Лихорадка с затмением» (1993) (действие которого разворачивается в Мексике, где, естественно, Абиш никогда не был) — еще более разносят друг от друга новаторское и традиционное (своеобразие роли Абиша как экспериментатора «в законе» подчеркивает и тот факт, что четыре (!) его книги включил в свой знаменитый «Западный канон» Харольд Блум).
(3) В целом для творчества Абиша характерно рафинированно-строгое, экономное пользование языком (в этом критика сравнивает его с Борхесом и Беккетом) и сознательный интерес к его семиотическому аспекту. В русле мысли Витгенштейна писатель исследует то пространство, в котором разворачивается литература, — тройственно определяемую «ничейную» зону, простирающуюся между реальностью, мыслью и языком; он стремится опытным, экспериментальным путем нащупать в этой пустоте вечно ускользающий центр — нарративный экстаз языка, превращающий бесхитростное повествование в литературное произведение. При этом, с точки зрения литературной, его формальные эксперименты (подчас опускающиеся в своей радикальности ниже уровня слов, вплоть до самих букв) прочно укоренены в реалистической — и весьма, под внешней поверхностностью, глубокой — трактовке соотнесенности повседневного (чаще всего манхэттенского) быта с извечными константами бытия. Традиционно вскрываемое при этом отсутствие смысла не трагично, как у Хоукса, не смешно, как у Джона Барта, не конструктивно, как у Пинчона, а осмысленно — оно осмысляется, заражая и заряжая собою мысль.
(15) На поиски вечно манящего центра этой пустоты он отправляется с разных сторон. Со стороны соотнесенности реальности и смысла ключевым для Абиша (как он сам не раз заявлял в интервью) является понятие привычного. Практически во всех его текстах речь идет о самой настоящей, последовательной деконструкции этого понятия: на месте четкого и категорического разграничения привычное/непривычное вскрываются куда более сложные взаимоотношения. Например, исходный шаг Абиша во всех его романах — выход в непривычное (не только для читателя, но и для него самого: Африка, Германия, Мексика, в которых он никогда не бывал) и его освоение через привычное: культурно-языковые знаки, устоявшиеся схемы восприятия; следующий этап — обнаружение существенного субстрата выявляемого подобным подходом непривычного, и, наконец, схожий с диалектическим синтезом результат — перенос имманентной непривычности в структуру исходно для нас привычного, предшествовавшего нашему путешествию. Таким образом, эксперимент по привыканию завершается остранением.
(12) Куда многообразнее технические языковые методы, к которым прибегает в своем поиске писатель. Самый простой прием — использование своеобразной, неканонической пунктуации: Абиш принципиально отказывается от традиционного оформления прямой речи, сливая ее воедино с речью авторской; с большой скупостью пользуется вопросительным и восклицательным знаками (огромное количество критических интерпретаций повлекло за собой, в частности, отсутствие вопросительного знака в названии романа «Сколь это по-немецки»). В этом проявляется принципиальное нежелание членить сплошной языковой массив на инстанции, дистанцировать речь автора от речи его персонажей, привносить в чисто текстовую материю внеязыковую семантику. Другой сквозной особенностью текстов Абиша, в которой можно видеть сознательно проводимую стратегию, является фрагментарный характер его прозы.
(22) Фрагмент Абиша заметно отличается от фрагментарного письма, философически прославленного и обкатанного французскими интеллектуалами от Мориса Бланшо и Ролана Барта до Жака Деррида; здесь фрагмент, напрямую отсылая к, казалось бы, неоспоримому статусу реальности, несет в себе и фигуру умолчания, недаром некоторые наиболее ортодоксальные критики упрекали Абиша в скрытности, мистификации и даже обмане читателя. Собственно, мозаичность абишевских текстов и помогла критике отшлифовать идеальную (пожалуй, столь же удачно попадает в цель лишь борхесовский лабиринт) метафору для его творчества: все его тексты являют собой puzzle. Фрагменты — а фрагментированы буквально все его произведения — объединяются вместе лишь в результате определенной активности читателя, складываются воедино только в пустоте объемлющего их пространства; то, что происходит за кадром, «между» фрагментами, ничуть не менее важно, чем непосредственно сообщаемое нам в тексте.
(31) Экстравагантнее всего выглядят два совершенно оригинальных (хотя по духу и несколько схожих с каббалистической практикой) и, казалось бы, искусственных авторских приема: использование алфавитной организации текста и введение в него чисел. Эти на первый взгляд представляющиеся чисто формальной эквилибристикой приемы несут в себе тем не менее и вполне содержательный заряд, отсылая к языку в его словарном или хотя бы, что для Абиша важнее, донарративном, не преображенном в фазу «художественного произведения» состоянии (следует, наверное, также вспомнить в этой связи и алфавитно организованные поздние книги Ролана Барта «Удовольствие от текста» и особенно «Фрагменты любовной речи», во введении к которой Барт обосновывает свою стратегию).
(1) Алфавитные игры наиболее масштабно реализованы в знаменитом дебютном романе Абиша, «Азбучная Африка», где все слова первой главки начинаются на букву А, во второй к ним прибавляются и слова, начинающиеся на В, в третьей в качестве первой буквы допускаются уже А, В и С и т. д., пока в двадцать шестой главе писатель не приходит к использованию всех словарных ресурсов, после чего начинается обратный процесс: из алфавита вновь по одной начинают исключаться способные начинать слова буквы; первыми запрещаются слова на Z, потом на Y, X и т. д., пока в пятьдесят второй главе вновь не устанавливается монополия А. Этот, естественно, непереводимый tour de force полностью переписывает привычные повествовательные стратегии: достаточно представить себе в подобном тексте судьбу повествования от первого лица.