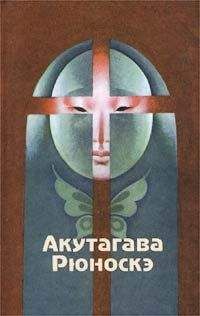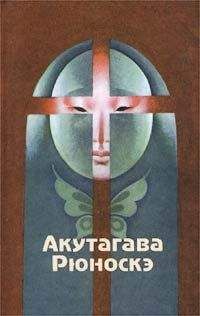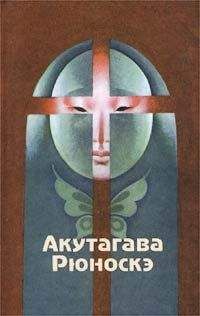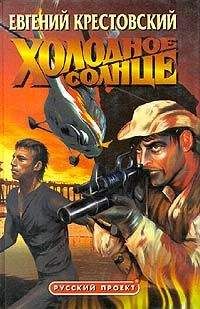Эфраим Баух - Завеса
– Не думаю, – мягко сказал Берг, – что он был способен на убийство. Вы знаете, его бабка, младшая сестра моего покойного, благословенной памяти, отца живет у нас. Цигель ее очень боялся, все обхаживал. Да и в обморок падал не от хорошей жизни. Несколько раз порывался покончить собой. Что сказать, трагическая фигура. И знаете, все же думаю, дали ему слишком большой срок.
– Восемнадцать лет. Сойти с ума.
– А он и сходит. И ничем помочь ему нельзя. Вы что, думаете, я зря брал его в синагогу, заставлял молиться? И пусть вам это не кажется преувеличением. В той ситуации, между теснин, только молитва спасет его. Я собираюсь передать ему несколько священных книг. Он же великолепно читает на иврите. Времени у него – целая жизнь. Бывало, что такие заблудшие души становились праведниками. Если только душа его не будет сломлена. Знаете, я тоже чувствую на себе вину. Я ведь мог вовремя раскрыть все, что таилось в его душе, и не было у него с кем поделиться. Я мог спасти его, и не сделал этого. Ведь он же мне довольно близкий родственник. И это меня мучает. Конечно, существуют разные военные тайны, от которых зависит судьба и нас с вами, и наших детей. И все же, самое дорогое в мире – высшем и низшем – человеческая душа. И каждый должен сделать все возможное во имя ее спасения.
– Опять это иудейское всепрощение. Да он же знал, на что идет. Его учили этому.
– Широки ворота в ад, а назад и щели не обнаружишь.
– Но как ловко законспирировался. Ни одного жеста, выдававшего его тайные намерения.
– Тут вы ошибаетесь. Я ведь уже много лет пытаюсь изучать тайны души человеческой по жестам. У него я давно замечал несоответствие между жестами и словами, им произносимыми, движениями тела. Многим система жестов человека кажется нелепой детской забавой. А между тем, за каждым жестом – суетливым, конвульсивным, церемониальным или молитвенным – скрыто внутреннее выражение души человеческой – ее неприязни, грешности, смирения, слияния с небом и вообще – самоощущения в жизни.
– И что?
– Но это не улики.
– По-вашему, он – жертва обстоятельств. Может еще стать праведником.
Не родились вы и не жили там, наивный человек. Есть такой перебежчик, бывший полковник КГБ Гордиевский. Нашего с вами возраста. В тридцатые годы, когда он, как и мы, был мальчиком, слышал, что в одной Москве расстреливали по тысяче человек в день, и все же пошел на службу в это гнездо убийц. Поймите, ваш родственничек – профессионал, получал за это немалые деньги. Приказали бы – рука бы не дрогнула. Просто он по другой части. В последнее время он явно переживал распад советской империи.
Теперь я понимаю: он думал, что все его шпионские усилия были впустую. Не стоило ему впадать в прострацию, мол, работал на машину, которая развалилась. И вообще, что стоит человечек-жучок-боровичок рядом с машиной, пусть рухнувшей, но продолжающей вертеть маховиками личных амбиций и варварского эгоизма, помноженного на азиатскую жестокость, смазанную накопленным партийным богатством. Знаете, можно считать чудом умение нашей с вами малой страны распознавать щупальца всех наших, мягко говоря, недругов и держать круговую оборону, быть может, только за счет ума и талмудической изощренности. Когда я приехал в Израиль, со мной, как и с каждым репатриантом, проводили беседу в Службе безопасности. На вопрос агента, что я ожидаю от жизни в Израиле, я признался, что желаю сбежать от любого коллективного заклинания, требования, обязательства. Там я пытался это делать по мере своих слабых сил. К сожалению, сказал агент, на этой малой земле мы все слишком зависим друг от друга…
В течение последнего времени, после осуждения Цигеля, дурная зависимость от него не давала Орману покоя. Стоило заснуть, как в любом сне тут же возникал Цигель. То он, подобно Протею, оборачивался на глазах Васей Кожухаренко и с плаксивой наглостью требовал от Ормана перевести с французского языка руководство по шпионажу, то неожиданно распахивал дверь в квартиру Ормана и, разбежавшись вдоль гостиной, прыгал в окно.
Тут же возникал Берг и назидательно говорил, что самоубийство – самое страшное преступление против человеческой души.
Надо же бежать вниз, кричал Орман, пока самоубийца не долетел до земли.
У нас есть время, отвечал на это Берг, ему-то лететь вниз восемнадцать лет.
Орман в ужасе просыпался.
В третьем часу ночи пил воду, стараясь унять сердцебиение.
Но стоило снова сомкнуть глаза, как Цигель был тут как тут. Он был сосредоточен, вещал голосом и словами Ормана:
«Есть сила земного притяжения, но есть и сила виртуального притяжения. Воображение обладает своим центром тяжести».
Дальше возникал какой-то мрак. Орман думал про себя, а Цигель, как марионетка, выражал эти мысли вслух:
«Когда же сдвигается центр тяжести души, человек теряет умение и чувство – отличать добро от зла.
А ведь человек – мера времени, и на уровне существования его не сдвинешь, чтобы не сотрясти окружающую реальность, в глубине которой иное соотношение прошлого, настоящего и будущего. Сама материя времени смущаема и смещаема не в эйнштейновском понимании сжатия и расширения, зависящего от скорости, а в экзистенциальном ощущении медленно тянущегося времени страха и депрессии в тюремной камере.
Но лучше ли проживание на воле, в быстро несущемся времени, в эйфории, чаще всего не оправданной?
Все беды в мире людей от нарциссизма, от скрытого любования самим собой, от отсутствия чувства реальности, от длительной безнаказанности, которая рождает уверенность во вседозволенности».
Было невыносимо слышать все это из уст Цигеля.
Эта исповедь, рожденная в душе Ормана и изрекаемая Цигелем, была крайним выражением отсутствия «свободы воли», по поводу которой Берг и Орман столько ломали копья.
Такие сны изматывали Ормана, угнетали. От них невозможно было оторваться и днем, сосредоточиться на том, что было его жизненной целью – теории единого духовного поля.
Лишь теперь он вспоминал странности в поведении соседа.
К примеру, стихи Ницше действовали Орману на нервы, словно бы автора глубинных философских и филологических игр, где «гений парадоксов друг», выбрасывало на поверхность, и он скакал на ломких стрекозиных ногах по водам. Это было весело, но все же поверхностно, мимолетно, претенциозно.
Орману также было некомфортно с Гете, взявшим в пролог к «Фаусту» разговор Бога с Сатаной из книги Иова. То ли гений не испытывал стеснения, взяв идею и сюжет у другого гения.
Во время прогулки, развивая эти мысли вслух перед Цигелем, Орман увлекся мыслью о продаже души дьяволу, за деньги ли, за молодость.
Цигель не находил себе места, вел себя странно, ерничал, тяжело дышал, размахивал руками.
Казалось, еще миг, и он ударит Ормана, который, конечно же, не умел читать жесты, как Берг.
Все же Орман чувствовал тогда все время какую-то враждебность, исходящую от Цигеля и, тем не менее, открывал перед ним душу.
Невозможно представить, что это было связано с простым соседством.
Неужели и вправду у каждого человека существует его злой гений?
Неужели нельзя избавиться от этого невыносимого симбиоза.
Каждый день Цигель чем-то напоминал о себе. Поднимаясь на крышу, чтобы проверить – не течет ли бак для нагрева воды в их квартире, он случайно увидел дверь квартиры Цигеля распахнутой, а за ней – полный разор, какие-то доски на полу, и ни одной живой души. Оказалось, Дина сдала квартиру, а сама с семьей сняла жилье в каком-то другом районе. Не могла смотреть в глаза соседям.
Более того, ощущение было, что после того, как Цигель надолго исчез физически с поля зрения Ормана, он еще сильней и сосредоточенней влиял на душу последнего, не давая свободно дышать, притупляя мысль, отравляя радость работы над книгой, оригинал которой на русском был вчерне готов и переведен самим Орманом на французский язык.
Отец мог бы воистину гордиться своим сыном, думал Орман, и эта мысль немного его успокаивала.
БЕРГ
Грустная вечеря
В этот вечер, в канун субботы, женщины ждали возвращения Берга из синагоги. Мать, жена и теща Цигеля – впервые собравшись вместе, посетили бабушку после его осуждения. Малка суетилась на кухне.
Подавались семь традиционных блюд, тишина ночи почтительно стыла за раскрытыми окнами, но не было благостного чувства, которое обычно испытываешь в эти часы. Всем было тягостно. Все ели, уткнувшись в тарелки, старались не глядеть друг на друга.
Молчание нарушила бабка.
– Всевышний одарил меня долгой жизнью, ясной памятью и то ли радостью, то ли проклятьем – предвидеть, подобно Кассандре, о которой я много читала по-французски, – предвидеть, но быть лишенной возможности что-либо изменить. Думаю, Всевышний дал мне долгую жизнь, потому что я никогда, слышите, никогда не кривила душой и говорила каждому правду в лицо, даже если она была нелицеприятна. Рядом сидит моя дочь и не даст мне соврать. Я ни в чем не собираюсь ее винить. Мы жили в страшное время Гога и Магога, нас убивали и в спину и в лицо, но я всегда помнила, что я дочь великих праведников, и этим поступиться нельзя. Я не считаю, что желание сохранить чистоту своего рода пахнет расизмом. Когда в твой род праведников вторгается человек из низов…