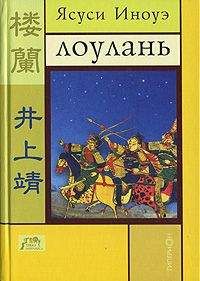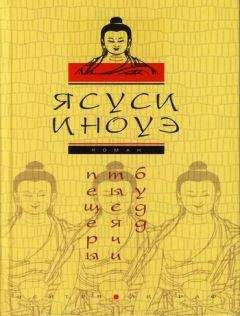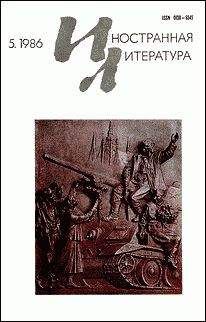Эрнесто Сабато - О героях и могилах
Были еще и другие причины, помогавшие этому бессознательному влечению. Я, кажется, говорил вам, что рано лишился матери и что меня в довершение всего послали учиться в большой город, далеко от родного дома. Я жил один, был робок и, на беду свою, обладал обостренной чувствительностью. Мог ли мир казаться мне чем-либо иным, как не хаосом, не юдолью зла, несправедливости и страдания? Как было мне не пытаться укрыться от него в одиночество и в дальние миры фантазии и романов? Незачем говорить, что я обожал Шиллера и его разбойников, Шатобриана и его героев-американцев [158], Геца фон Берлихингена [159]. Я уже был подготовлен к тому, чтобы читать русских писателей, и, наверно, прочел бы их тогда, будь я не отпрыском буржуазной семьи, а одним из тех многих мальчиков, с которыми потом познакомился, детей рабочих, детей бедняков; для этих мальчиков Русская Революция была великим событием нашего времени, великой надеждой, и среди них легче было встретить читателей Горького, чем поклонников Мансильи [160] или Кане [161]. Вот одно из главных противоречий нашего воспитания и одна из причин того, что долгое время глубокая пропасть пролегала между нами и нашей собственной родиной: желая познать одну действительность, мы попадали под влияние другой, чужой. Но что такое наше отечество, как не ряд всевозможных отчуждений? Как бы там ни было, в 1929 году я получил степень бакалавра. До сих пор помню, как через несколько дней после экзаменов, когда в нашем колледже воцарилась особая, унылая тишина учебных заведений, ученики которых разъехались на летние каникулы, мне захотелось взглянуть в последний раз на места, где прошли пять невозвратных лет. Я обошел сад, посидел на каменной ограде, предаваясь раздумьям. Потом поднялся и подошел к дереву, на котором за несколько лет до того, будучи еще мальчишкой, вырезал свои инициалы: «Б.Б. 1924». Как одинок я был тогда! Как беззащитен и жалок, я, деревенский мальчуган, в чужом, страшном городе!
Прошло еще несколько дней, и я отправился в Капитан-Ольмос. То были последние каникулы в нашей деревне. Отец постарел, но был по-прежнему суров, неласков. Я ощущал себя чужим и ему, и своим братьям и сестрам, душа была полна смутной тревоги, но все мои желания были неопределенны, неясны. Я предчувствовал приближение чего-то, но не мог угадать, чего именно, хотя мои сны и упорные прогулки вокруг дома Видалей могли бы мне это подсказать. Как бы там ни было, я провел те каникулы в своем селении, глядя на окружающее, но ничего не замечая. Только после многих лет, многих перенесенных ударов, после утраты иллюзий и знакомств с многими людьми я в каком-то смысле снова обрел своего отца и свое родное селение: ведь путь к самому заветному – это всегда кругосветное путешествие через толпы людей и многие миры. Так и я пришел к своему отцу. Но увы, как обычно, слишком поздно. Если бы в то лето я знал, что в последний раз вижу его здоровым, если бы догадался, что через двадцать пять лет увижу его превратившимся в гниющую массу костей и плоти, скорбно глядящую на меня из глазниц очами, уже чужими миру сему, тогда я, быть может, постарался бы понять, что он строг, но добр, деятелен, но нежен, вспыльчив, но чист душой. Но мы всегда слишком поздно понимаем самых близких нам людей, и, когда начинаем постигать трудную науку жить, тут-то приходит пора умирать, а главное, уже умерли те, для кого наша мудрость была бы всего важней.
Возвратясь в Буэнос-Айрес, я не очень-то ясно представлял себе, чем займусь. Мне хотелось изучать все или, вернее, не хотелось ничего определенного. Я любил рисовать, я сочинял сказки и стихи. Но разве это профессия? Можно ли всерьез кому-то сказать, что я хочу посвятить себя живописи или сочинительству? Ведь все это занятия людей, живущих праздно и безответственно. Мои друзья казались мне такими солидными, они учились на медицинских или инженерных факультетах, изучали, как лечить скарлатину или сооружать мосты, – я же высмеивал сам себя. Из такого вот чувства стыда я и поступил на юридический факультет, хотя в глубине души был уверен, что никогда не буду способен заниматься адвокатурой.
Опущу то, что не представляет для вас интереса, но, поймите, я не могу говорить о людях, имевших для меня огромное значение, не рассказав о своих чувствах в ту пору. Разве те люди могли бы что-то значить для меня, не будь тут замешаны мои собственные желания и чувства?
Итак, возвращаюсь к Максу.
Пока они заканчивали партию, я с любопытством смотрел на него. То был тип еврея флегматичного, медлительного, с наклонностью к полноте. Орлиный мясистый нос в сочетании с высоким лбом придавал ему некое спокойное благородство. А задумчивое, созерцательное выражение лица подходило скорее человеку зрелому, много испытавшему. В одежде он был небрежен, на пиджаке не хватало пуговиц, галстук плохо завязан, все на нем сидело кое-как, словно бы оделся он только ради того, чтобы не ходить по улице голым. Позже я обнаружил, что он начисто лишен практической жилки и совершенно не умеет обращаться с деньгами: получив от родителей сумму на месяц, он через несколько дней без толку растрачивал ее, и ему приходилось закладывать книги, постельные принадлежности и неизменно возвращавшийся в ломбард перстень, подарок матери. Познакомившись с родителями Макса, я убедился, что отец его так же флегматичен и так же беспечен. В общем, отец и сын могли служить сокрушительным опровержением стандартного образа еврея. Оба были крайне непрактичны, даже безрассудны (но в безрассудстве своем мягки, спокойны), миролюбивы, дружелюбны, мечтательны и комично бестолковы, нрава созерцательного и ленивого, бескорыстны и абсолютно неспособны зарабатывать деньги. Впоследствии, навещая его в пансионе, я увидел, как беспорядочно он жил: спал, когда вздумается, и ел, когда придется, прямо в постели, для чего припасал на ночном столике огромные бутерброды с колбасой или сыром. Там же стояли у него спиртовка и сосуд для мате, и он, не вставая, все время пил, делая перерывы лишь для курения. На захламленном, неопрятном своем ложе он, полуодетый, читал жадно и повторял на карманных шахматах знаменитые партии, ежеминутно справляясь в книгах и специальных журналах.
Через этого парня я познакомился с Карлосом – словно пройдя по шаткому мосту, способному в любой момент обрушиться, ступил на твердую каменистую почву, на базальтовый континент, усеянный огнедышащими вулканами, грозящими извержением. С годами я не раз замечал, что иные люди как бы служат лишь мостом для двух других, между которыми затем устанавливается глубокая и прочная дружеская связь, – вроде хлипкого, временного моста, который воинская часть перебрасывает через пропасть и, перейдя на другую сторону, убирает.
Карлоса я встретил у Макса как-то вечером. При моем появлении они умолкли. Макс нас познакомил, но я расслышал только имя. Фамилия, кажется, была итальянская. Карлос был худощав, с большими выпуклыми глазами. В его лице и жестах чувствовалось что-то жестокое, резкое, он показался мне человеком сдержанным и сосредоточенным. Видно было, что он перенес много невзгод, и наверняка не только явная бедность была причиной его душевной тревоги и страданий. Думая о нем впоследствии, когда я интересовался им из-за его отношений с Фернандо, я представлял себе, что вот это и есть чистый дух, чья плоть как бы сожжена внутренним жаром и от истерзанного, обгоревшего тела остался минимум костей и кожи да чуть-чуть мышц, правда очень крепких, – лишь самое необходимое для того, чтобы двигаться и выдерживать напряжение существования. Он все больше молчал, но глаза его вдруг вспыхивали негодующим огнем, а губы, будто прорезанные клинком на малоподвижном лице, сжимались, чтобы скрыть какую-то важную и страшную тайну.
Дружба Макса с Карлосом казалась мне в то время удивительной: словно бы сдобный хлеб резали острым стальным лезвием. Я тогда еще не достиг возраста, когда мы понимаем, что в отношениях между людьми нельзя ничему удивляться. Теперь-то мне ясно, что в характере -Макса были черты, благоприятные для такой на вид странной дружбы: неистощимое добродушие, умерявшее духовный накал Карлоса, как вода умеряет жажду человека, долго блуждавшего в пустыне; сама его мягкость, позволявшая дружить с такими разными и непримиримыми людьми, как Карлос и Фернандо, и действовавшая как амортизатор, не допуская слишком резких сшибок. Вдобавок ни одному полицейскому не пришло бы в голову, что юноша вроде Макса мог поддерживать отношения с анархистами и налетчиками.
Это что касается Карлоса. Что ж до Фернандо, то я сперва заподозрил, а там и убедился, что у него-то мотив был куда более гнусный: мать Макса. Не помню, говорил ли я вам, что Фернандо питал особую слабость к совсем юным девушкам и к женщинам уже зрелым. Наделенный незаурядным даром притворства, он мог соблазнить и девчонку, которой нравится гулять с милым, взявшись за руки, и женщину с большим и обычно горьким опытом и знанием мужчин. Если верно, что самое подлинное лицо бывает у человека, когда он остается наедине с собою, то самое подлинное лицо Фернандо было жестокое и безжалостное, с чертами, будто высеченными резцом; однако, как лавочник, на которого свалилось горе, может (и должен) при появлении покупателя изобразить любезную гримасу, так и Фернандо был способен надевать личину с искуснейшей имитацией нежности, понимания, романтичной увлеченности или наивности, смотря по клиенту. Помогало ему в этом безграничное презрение к роду человеческому, особенно к женщинам, и, играя эту мрачную комедию, он не только удовлетворял свою похоть, но, кажется мне, находил также повод для презрения к себе самому. Он глумился над пошлыми теориями о женщинах, над банальными мнениями, вроде того, что женщина, дескать, существо романтичное и ее надо покорять при лунном свете или что с женщиной надо быть грубым, жестоким. Он считал, что есть женщины, для которых нужен букет цветов, другим надо дать пощечину, а третьим (иногда тем же самым, в зависимости от обстоятельств) – и то и другое. Но в конце концов он со всеми ними обходился безжалостно, порой бывал так груб, что зевал в момент кульминации полового акта.