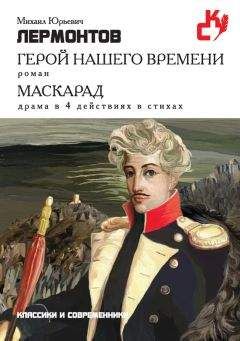Владимир Маканин - Андеграунд, или Герой нашего времени
Но самый гнусный сброд на третьем — на моем этаже. Да еще погода: не помню солнечного дня. Какой-то холод и склизь. Замерзшие, зябкие лица. Мне подсказывают: вот убийца, застрелил кого-то из своих склочных родных. Убийца это не характеристика. Это просто добрый совет, сигнал. На предмет большей осторожности. Однако же человек не живет начеку: он в этом смысле как растение, куда ни пересади, пускает корешки, забывая об опасности. Жизнь как жизнь. И как-никак крыша над головой! А снегопад, воющая третьи сутки кряду метель сделали меня и вовсе к окружающим равнодушным. Я занят собой. Я хожу присогнутый. Вялый. Мне все без разницы. Я похож на осла, которого узбек так нагрузил, что тот подгибает ноги. (Мой узбек куда-то ушел. Нагрузил и ушел.) Когда ночью я подхожу к общажке, я даже не могу ее найти — такой снег. Но вот белая пелена расступилась, поредела, общажка-дом кружится в снегу — возникают углы, стены, сам дом. Кусты в ледяной изморози у входа. Наконец двери. Здесь я живу. Все вдруг наново обретается. И вот — нижний этаж, с мелкосеменящими вьетнамками, крохотными женщинами, которые ходят туда-сюда не подымая глаз и каждые полчаса что-то варят.
Нас четверо. Лысоголовый Сергеич (моих лет) движется, через каждые два-три шага вздергивая задом, крестцом, у него что-то с позвонками, где затаилась взрывающаяся боль. (Невидимка идет за ним следом и нет-нет дает пинка в зад.) Не пьет. Не шумит. И ко мне расположен. Он — Сергеич, я — Петрович, можно поговорить. Работает он с савеловскими ханыгами, вынюхивая для них товар на складах и в магазинах, — клянет их, но прожить без них уже не может.
С нами еще два мужика: оба Сашки, молодые и заметно мрачные. Вчетвером в комнате — четыре кровати. Так же, как делал в крыле К, я привязываю цепочкой (с ключиком) пишущую машинку к кроватной ножке. (Так спокойнее.) Предусмотрительность нелишняя. Оба Сашки встают рано утром, когда я еще сплю.
Я возвращаюсь из ночного метро — и всегда в буран, весь белый. К ночи метет. Сергеич, увидев, дружески кричит:
— А-а. Снежный человек!..
Нет денег. Я постоянно трезв, ни грамма. Трезв, но кажется (из-за летящего снега), что выпил лишнего и что подолгу кружится голова, а с ней и земля, столбы.
Двое мрачных оживились: у них появились доллары. Сашки тут же пригласили, привели снизу худенькую некрасивую вьетнамку, которую и имели вдвоем в течение, я думаю, двух-трех часов. Меня они выставили, я ходил по коридору в зимней медитации. Ходил себе и размышлял, никуда не ушел — к счастью, потому что вьетнамка вышмыгнула из комнаты, неся мою пишущую машинку. Догнал и, пристыдив, буквально вырвал из ее хрупких рук. За два шага от нее разило мужским духом моих сокомнатников.
Ублажившись и став чуток счастливее, мрачные Сашки сели играть в карты. Один из них на кровати, другой присел на корточки, по-этапному. Меж ними табурет. На табурете дамы, десятки, девятки. Лысоголовый Сергеич тем временем в своей тумбочке ищет, не может найти паспорт, нервы разыгрались, дергается (невидимка, знай, пинает его в крестец). Смотреть невыносимо. Я и не смотрю: лежу и слушаю сленг играющих Сашек — их мрачные мать-перемать, если мало козырей или карта идет не в масть.
Они играют в дурака, сто, двести партий подряд. Нет-нет и жуют, поддатые, но я так и не заметил, что и когда они пили. По-тихому пьют дрянь. (Травиться на виду им стыдно?) Политура. Лачок, как сказал один из Сашек — он чуть помоложе и лицо в конопушках. (Я уже различаю.) Он сидит на корточках, считает козырей и все жалуется, жопа мерзнет.
От комнатного пола и правда — волна холода. Слышно, едва протянешь ладонь.
Я лежу в лежку и время от времени думаю думу, я ее называю — мой сюжет. Навязчиво, как болезнь. Можно уже и без «как» — это болезнь, я болен. (Сломал свою детскую игрушку.) Не отпускает меня убитый гебэшник Чубисов. Убиенный. Уже, конечно, нашли его, завонял, разложился и только тут жильцы с пятого, верхнего дружно спохватились. То-то переполох. Я (в последнюю минуту) поискал документы в его емких карманах; не чтобы имитировать ограбление или как-то схитрить — поискал просто так. Не было их. Его не опознают. И вообще не станут им заниматься, в наши дни это еще один труп, вот и все. Менты даже счастливы, что ни документов, ни бумажек — меньше работы.
Чтобы заснуть, прием: я вызываю в памяти лица женщин. Реальные, они были бы недостаточны, были бы слабы мне помочь, да и любили-то они в меру сил, ворчали, ныли. Но с годами их осветленные лица обрели силу образов и дают стойкое тепло. Каждая женщина со своей лучшей минутой. Даже Зинаида. Даже Галина Анатольевна, что науськивала на меня бравых акуловцев. Умиротворение, ночная чистка души (женскими лицами) — линька, наркотик, с которым мягко переползаешь в сон.
Вахтер на входе (при всем моем недоверии к служивым) — единственный здесь человек, в ком я нашел близкое. Это потому, что у него маленькая гундящая дудка. Словно бы отнятая у ребенка. (Такого рода тоскливое нытье он из нее выдувает.) Конечно, он поддатый.
Едва успев увидеть, как он прикладывается к бутылке, вижу, как вслед (за бутылкой) он прикладывается к дудке. Его гуденье шумно, фальшиво, назойливо, но при этом неумело и столь жалостно, что кажется, звуки творит весь наш бесталанный человеческий род. Как у метро заматерелый нищий. Хочет — и просит. Тоже ведь бесталанен, но зато навязчив, настырен и тем самым тоже имеет, заслужил свою трудовую каплю жалости. (А с жалостью — и каплю любви, разве нет?..) Этот вахтер даже не винтик в сторожевом механизме. С ним никто не считается, идут мимо него не глядя, не замечая, а некоторые щелкают его по лбу просто так, от нечего делать, на ходу. Он говно. Сам это знает — и не сомневается на свой счет. Но что же тогда он так жалостно дует, надрывая мне сердце? Жалоба как теплая крыша, как самозащита от еще больших невзгод. Его сусличье, крысиное гуденье — знак всего бомжатника в целом (пароль на входе) — звуковой иероглиф их боли и сволочизма в сплетении.
Когда кто-то входит, вахтер пугливо вынимает дудку из беззубой пасти (в душе, вероятно, вытягиваясь по швам), смотрит, ожидая щелчка, насмешки. Если я улыбнусь ему, это его пугает. Он немеет. А с вынутой изо рта дудки каплет на стол, покрытый толстым небьющимся стеклом, стариковская слюна, кап и кап и кап — слезки истощившегося гуденья.
Замерзший, я на входе присел на стул возле радиатора отопления, пощипывая только что купленный батон хлеба. Прижало сердце. (Отпустило, но надо было переждать известную подловатую слабость.) Сидел у самого входа. Старый вахтер услужливо записывал, а вьетнамец ему диктовал товарно-магазинную информацию — для передачи другому вьетнамцу. Авторучка вдруг отказала. Старик мучительно долго тряс, чертил, давил, призывая ее (принуждая) оставить свой след на бумаге. Но напрасно. Зашмыгав носом, старик тогда попросил (стеснительно) ручку у вьетнамца. Тот с охотой дал, поблескивающую, небольшую, старик заспешил чертить, но и тут авторучка выскальзывала из корявых рук, что вызывало в нем самом неуверенный смех: вот ведь неловок!.. вьетнамец тоже смеялся. Старик хватал скользкую, как плотвичка, авторучку, а она выпрыгивала прямо на лист бумаги.