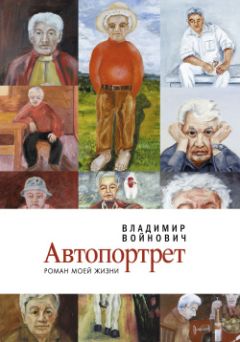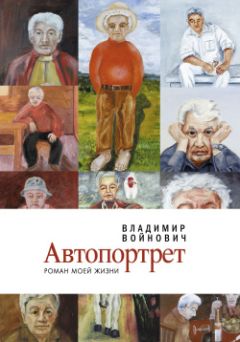Владимир Войнович - Монументальная пропаганда
Вдруг кто-то сказал:
— Смотрите, смотрите!
Аглая глянула вперед и увидела там, где Тверская улица пересекалась Охотным рядом, заслон людей в зеленых касках с плексигласовыми щитами и дубинками. Они стояли зловещей несокрушимой стеной, с напряженными лицами, как будто на них шла не кучка старых людей, а сто восемьдесят вражеских отборных дивизий. Из демонстрантов некоторые немного струхнули и поневоле замедлили шаг. Но Аглая, прервав предыдущую песню, сама запела:
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки великая Русь…
Голос у нее был хриплый, старческий, тихий, но Федор Федорович помог ей, подхватив тоже скрипуче:
Да здравствует созданный волей народов
Единый могучий Советский Союз…
Их поддержал владелец электроходов, а уж припев подхватили все:
Сла-а-авься о-о-те-е-чество…
Под звуки припева приблизились к омоновскому заслону, остановились лицом к лицу и, топчась на месте, продолжили пение.
Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
вспомнила Аглая начало второго куплета.
— И Ленин великий нам путь озарил… — продолжил генерал Бурдалаков, ударяя правой ногой в булыжник.
— Нас вырастил Сталин… — радостно подхватила Аглая…
— Товарищи, — бегал вдоль колонны распорядитель, — просьба ко всем, сохраняйте строй. Не выходите из строя.
Тем не менее строй постепенно сминался, шеренги растеклись вдоль заслона, и Аглая оказалась прямо перед милиционером, парнем лет двадцати деревенского вида, с маленькими раскосыми глазками на круглом лице. Демонстранты продолжали исполнять свою песню, и Аглая пела, глядя милиционеру прямо в лицо. Он взирал на нее удивленно и не мигая. Аглая перевела взгляд на других милиционеров, те тоже стояли твердо, но переглядывались между собой и усмехались. Аглая испытывала полное раздвоение чувств. С одной стороны — это были вроде бы наши советские, российские ребята, с которыми она пошла бы в атаку на ненавистного врага, с другой стороны — они-то как раз и были ненавистным врагом, готовым по приказу сражаться с ней.
Тем временем к Глухову подошел полковник милиции, тоже в каске, но без щита. Он хотел что-то сказать, но Глухов не дал ему этой возможности, продолжая петь, и только когда песня кончилась, обратил свое внимание на подошедшего:
— В чем дело, полковник? Какой проблем?
— Господин Глухов, — сказал полковник негромко, — мне поручено вам передать, что на этом месте ваше движение заканчивается. Сообщите это вашим людям, и пусть расходятся.
— С какой стати? — спросил Глухов. — У нас с мэром была твердая договоренность.
— Я не знаю, с кем и какая у вас договоренность, но мне приказано…
— Кем приказано? Кто приказал?
— Неважно кто, но приказано освободить дорогу и восстановить движение транспорта. И я этот приказ выполню.
— Вы его выполните, но сначала мы пройдем к Мавзолею и возложим венки…
— Поодиночке — пожалуйста. Но не колонной.
— Нет, — сказал Глухов твердо, — мы пойдем именно колонной.
— Господин Глухов, — устало сказал полковник. — Мне очень не хочется препираться, но ваше шествие закончено. Если вы не исполните, что вам говорят, против вас будет применена сила.
— Что? Сила? — вдруг выскочил со своим знаменем Федор Федорович. — Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? А как ты передо мной стоишь? Ты стоишь перед генералом. Смирно!
Полковник посмотрел на него с некоторым удивлением и сказал:
— Товарищ генерал, прошу вести себя в рамках. Я здесь выполняю распоряжение правительства Москвы, и вы для меня не генерал, а лицо, нарушающее общественный порядок.
— Я — лицо нарушающее? — возмутился Федор Федорович. — Ах ты сопляк! Подонок! Да я Берлин брал! Я за тебя кровь проливал! Я с тебя погоны сорву!
Он даже потянулся к погонам полковника, но Глухов перехватил его руку:
— Федор Федорович! Ни в котором случае! Мы — организованная сила и на провокации не поддаемся.
Генерал еще дергался, но давал себя удержать.
Ряды демонстрантов волновались, сбились в кучу, и одни из участников стали выбираться от греха подальше наружу, а другие, наоборот, продвинулись вперед. Глухов попробовал успокоить толпу и, размахивая над головой руками, стал выкрикивать:
— Товарищи! Соблюдайте спокойствие и порядок! Займите свои места в колонне!
Тут рядом с ним вновь объявился Сиропов, стал толкать Глухова в грудь, плевать в него и выкрикивать:
— Товарищи! Друзья! Соратники! Не слушайте ренегатов! Глухов — ренегат! Разве мы не русские люди? Мы потомки Ленина, Сталина, Минина и Пожарского! Вперед на Кремль! Вперед на Кремль!
Вокруг него, неизвестно откуда взявшись, возникла целая группа молодых людей с вытаращенными глазами. Они стали вопить хором:
— Сталин! Берия! Гулаг!
Другая группа продолжала выкрикивать:
— На Кремль! На Кремль!
Кто-то толкал Аглаю в спину, прямо на омоновца с деревенским лицом, тот ни на что не реагировал и по-прежнему, не мигая, смотрел на Аглаю.
А она, вдруг почувствовав себя молодой, боевой и задорной, забыв, в какое время это все происходит, закричала:
— За Родину, за Сталина — вперед!
— Даешь Берлин! — завизжал рядом с ней Бурдалаков и, повернув древко знамени, как пику, с нешуточным намерением проткнуть насквозь стоявшего перед ним полковника, сделал соответствующий выпад. Полковник увернулся, а генерал, не рассчитавши движений, упал и задергался на земле.
— Убили! Убили! — закричал кто-то.
— Генерала убили! — подхватили дальше.
— Товарищи, соблюдайте порядок! — глох где-то голос Альфреда Глухова, но его никто уже не слушал. Демонстранты, превратившись в неуправляемую толпу, нападали на омоновцев, толкая их в грудь, но те ловко прикрывались щитами. Аглая перехватила портрет Сталина в левую руку, а правой стала толкать своего омоновца. Тот лениво оттолкнулся щитом. Аглая рассердилась еще больше и, перегнувшись через щит, ударила его портретом по каске. Каске ничего не сделалось, а портрет развалился. Рамка треснула, и бумага порвалась. Это привело Аглаю в еще большую ярость, и она, наклонив голову, как бычок, кинулась на омоновца в намерении его забодать, но тот опять подставил щит, и она врезалась в него непокрытой головой, как в бетонную стену.
Будь ей лет на сорок поменьше, может, это было б и ничего, но для восьмидесятилетней старухи удар был слишком силен. Ей не было больно, но почему-то захотелось сесть, и она опустилась на мокрый асфальт. Вокруг нее продолжались толкотня, визг, крики, кто-то стонал и ругался матом. Над ней склонялись незнакомые лица, молодые, красивые, мокрые, она смеялась, ее спросили, чему смеется, и кто-то за нее ответил, что это она в горячке.