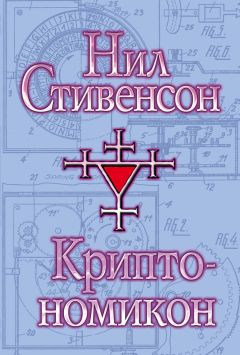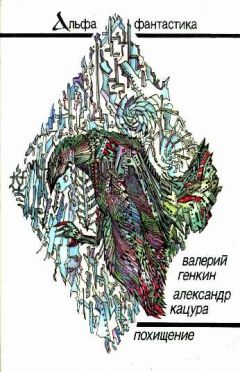Валерий Генкин - Санки, козел, паровоз
Так и проводил Натэллу замуж за Яшу.
И уж совсем забавно. Он сидел в кино, забрел от нечего делать на дневной сеанс в один из залов «Метрополя». Что-то творилось на экране, но Виталика занимала женская нога, касавшаяся его колена. Он скосил глаза направо. Смутно различимый профиль. Молодая вроде. Смотрит вперед напряженно. До сеанса он ее не разглядел, да и не разглядывал, плюхнулся в кресло, а тут и свет погасили. Нога, однако, прижимается сильнее и тихонько так трется. Он легко тронул пальцами колено этой настырной. Женщина медленно отвела полу плаща. Скользкий чулок. Ладонь поверх его кисти. И ведет. Приглашает — выше. Не слишком удобно при разделенных подлокотником креслах правой рукой ползти по левому бедру соседки. Но интересно. Чулок — а тогда еще носили чулки — закончился, внутренняя сторона бедра теплая, влажная. И женщина, руководя его пальцами, отстегивает подвязку. Чуть изменив позицию, он придвинулся к ней вплотную, ребром ладони уперся в лобок и стал тихонько его массировать сквозь шершавую материю трусов. Сам он практически ничего не чувствовал — его занимала реакция соседки. Неподвижный профиль, плотно сжатые губы, глаза — на экран. А ладонь, нежная, нервная, включилась в его движения, помогает, поправляет, направляет. Так длилось довольно долго, несколько минут. Рука стала уставать, затекать. Его вот-вот разберет смех, а девушка, профиль тому свидетельство, чудовищно серьезна. И вот, слава Богу, ее губы чуть раздвинулись, и тихое, но явственное шипение ознаменовало оргазм.
Она вышла, не дожидаясь конца картины.
И вот еще что продолжало занимать мысли уже постаревшего Виталия Иосифовича. Нужны ли слава, самоутверждение, удовлетворенное честолюбие, известность, когда у тебя гипертония, одышка, геморрой, привычная икота, тяжесть в желудке, стерва-жена, босяк-сын… А если, напротив, ты здоров и бодр, жена — ангел, сын — призер трех олимпиад, то на кой хрен тебе те же известность, слава, удовлетворенное честолюбие? Есть и другая точка зрения: кому недостает таланта стать известным, обрести славу, те могут найти утешение в милосердии, помогать ближним и терпящим нужду А часто ли источают доброту люди успешные? Да и всякие… Может, потому он и любит зверье, что людей, как говорится, en masse, — не научился, а кого-то ведь надо. Не так давно испытал он горькое чувство утраты: в Швейцарии вышел указ об отстреле последнего в этой стране волка за то, что тот зарезал свою пятьдесят первую овцу. Перебрал лимит волчара. А в пору юности Виталик позлорадствовал, прочитав, что Иван Сергеевич Тургенев долго не мог спать, вспоминая предсмертный крик зайца, затравленного собаками. Заснуть, видите ли, записывающий охотник не мог. Виталик же, воплощенное добросердечие, поджаривая свеженькую печенку, подобно какому-то пустобреху позапрошлого века искренне надеется, что настанет время, когда просвещенное потомство будет смотреть на нас нынешних, поедающих коров и овец, как мы смотрим на каннибалов. Продолжая размышлять о милосердии, вспоминает он притчу о стране Мальбек, где все провинности, буквально все — украл морковку, не заплатил налог, изменил государю, поджег дом соседа — жестоко карались смертью, но все осужденные получали отсрочку наказания до… смерти. И перед этим наказанием — как ничтожны наши дрязги, взаимные претензии, брюзжание, зависть. Сидим, ждем исполнения приговора, да еще собачимся… Неужто забыли: «Еще меня любите за то, что я умру..»? А потому, думал он, какие же могут быть споры о смертной казни, когда мы все к ней приговорены? И подумайте, обращался Виталик к воображаемому собеседнику, каково это: профессия — палач. Другое дело — добровольная эвтаназия, спасение от немыслимых страданий. Как-то довелось Виталику услышать вдохновенную речь облаченного в рясу б-а-а-лыпого специалиста по путям духовного просветления, который эту эвтаназию клеймил как тяжкий грех. Оказывается, вещал он, на определенной — пятой вроде бы — стадии умирания это самое просветление и посещает страдальца. Исключительно, говорил, важно для души через эту стадию пройти, а то вся жизнь коту под хвост. Виталик живо представил себе: вот лежит в луже грязи и крови солдат с выпущенными кишками и умоляет друга его застрелить, а тот ему в ответ — подожди, брат, щас будет тебе пятая стадия, Бога узришь! Ну всю картину портит солдатик.
И вот еще что: мучило Виталика сомнение. Зародилось оно рано. В школе, в младших еще классах, его старались убедить, что человеком человека сделал труд. Вроде большой авторитет, чуть ли не сам Энгельс, так порешил. Как истинный отличник, Виталик все это на уроках отбарабанивал и убедительно аргументировал, но червь сомнения делал свое дело. Труд! А что, любой зверь не в поте лица (морды, рыла) своего добывает свой насущный хлеб (кусок мяса, клок травы)? Это ж только в стойле тебе все подадут, чтобы потом, откормивши, зарезать. А в природе — мчись во все копыта, трудись, корми детенышей из последних сил… Может, и выживешь, но человеком, ясен пень, не станешь. А еще — тоже не дураки писали — речь, вторая сигнальная система, то-ce, сигнал сигналов. Она, мол, и делает человека человеком. Но и тут червь не унимался, грыз. Птицы перечирикиваются, слоны трубят и топочут, а уж о дельфинах и говорить нечего… Уж совсем проникновенный батюшка на палубе какого-то парохода, беседуя с Виталиком о высоком, вещал, что только человеку дано знать о смертной природе своей телесной оболочки, а потому он пребывает в великом страхе перед смертью, смягчить который может только вера в бессмертие души… Получается, человеком его делает страх умереть? Как же! А слышал ли батюшка рев скота, ведомого на забой? Кабанчика как-то в деревне сосед резал… Ох, лучше не вспоминать… И, потихоньку размышляя, Виталик сделал для себя неутешительный вывод, что человека человеком сделал… стыд.
Виталий Затуловский (уходит)
«Я часто думаю о старости своей, о мудрости и о покое». Виталий Иосифович на склоне лет полагал, что имеет больше оснований размышлять на эту тему чем Николай Степанович, который и погиб-то совсем молодым — в тридцать пять. И размышлял, но попроще:
Ох как несладко, господа,
Вползать в преклонные года,
Почуять на своих плечах
Всю тяжесть организма.
Ты стар, ты хвор, твой дух зачах,
И по утрам терзает страх:
Неужто снова клизма?
А тема богатая…
Конечно, слезно и сладко со скоростью Магомета, сгонявшего в Иерусалим и обратно, пока задетый крылом ангела кувшин с водой падал на землю, слетать в детство и вернуться. А задержавшись там — отогнать грусть проверенными способами: открыть измочаленный том «Трех мушкетеров» и вдохнуть памятный запах старой бумаги, уткнуться в бабы-Женины колени, пройти с куском черняшки по Ильинскому скверу, половить лягушат в малаховской луже — да мало ли чем там можно заняться.
Старый абсурдовед с французской фамилией и тюремным опытом — за совращение мальчика — в ответ на справедливое «о чем это?» (по поводу мудреного романа Беккета) сказал с утомленной мудростью: о чем все произведения мировой культуры, которые хоть что-то значат? О любви, одиночестве и смерти. Любовь — состояние внутренне трагическое, его фон — ожидание и страх одиночества. А одиночество исполнено оптимизма: оно кончается смертью, которой нет. Утешительный софизм, а?
Вот и в любви Виталика (разделенной — любил себя и пользовался взаимностью) было не все благополучно. Терзали сомнения: достойный ли объект выбран? Услышал он раз, как, рдея от гордости, сладкоголосый певец Николай Басков сообщил миру и граду буквально следующее: «Я за всю жизнь не совершил ничего, за что мне было бы стыдно». М-да. Это ж надо! Ни одного постыдного поступка! А он-то лет в семь-восемь украл в книжном магазине на Солянке лист красивой такой бумаги для оборачивания учебников и прочих книжек. Было время, обложки книг защищали таким способом — то газетой, а то и бумагой поплотнее. Мама, например, все его учебники аккуратно оборачивала в кальку. И даже тетрадки. Так вот, заплатил Виталик пятак за лист, продавщица и говорит — возьми, мальчик, сам. Он и взял целых два. Потом бежал с locus delicti, сердце колотилось, поймают — тюрьма. Не поймали. Так и мучается от стыда шестьдесят лет. А не укради тогда — видно, как Басков, оставался бы безупречным по сю пору. Остыл, и ничего не хочется, даже спереть лишний листок красивой бумаги. Ах, ах, не вернуть юных лет. Что проворчал по этому поводу помянутый Беккет? I wouldn’t want ту youth back. Not with the fire in me now. Мол, зачем мне молодость, коли нет уж в душе огня.
Милая моя, бодрюсь перед живыми, но тебе-то могу сказать — все не так уж сладко. А бывает и тошнехонько. Ушел огонь, да какой уж там огонь — память о нем дотлевает… В зеркало гляну — губы в унылое коромысло складываются: hoc est enim corpus meum. А ведь еще Черчилль говаривал: «В моем возрасте я уже не могу позволить себе плохо себя чувствовать». Я же в большое всего тела пришел разорение и смрадное согнитие.