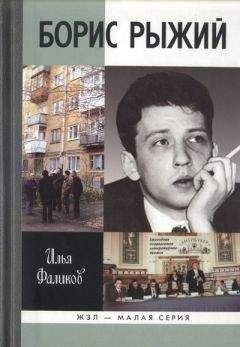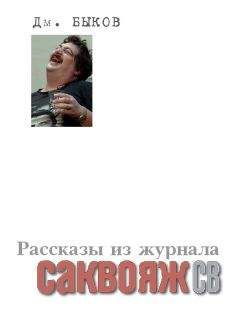Дмитрий Быков - Статьи из журнала «Русская жизнь»
Приезжайте как-нибудь на дачу не летом, а осенью, перед снегом: грустное зрелище, ужасно я его не люблю, но надо же собрать последнюю черноплодку, самую вкусную, тронутую уже морозцем. Вам откроется дачный пейзаж, с которым вы не успели толком разобраться в августе: не выполотый конский щавель, не вырванная с корнем душица… И вот за время вашего отсутствия — особенно если сентябрь был теплый — вся эта мерзкая, ненавистная вам трава, регулярно забивающая вашу клубнику, флоксы и даже молодую смородину, успела вымахать, одеревенеть, засохнуть; и теперь, перед зимой, говорит вам всем своим видом: а есть ведь кое-что и пострашнее меня. И глядя на эту высохшую, кое-что уже понимающую траву, вы — при всей своей ненависти к огородному сорняку — испытываете к ней горячее сочувствие, потому что на вас и на нее, на вас обоих, накатывает нечто совершенно уже непобедимое.
Или, чтобы было понятнее, потому что не у всех же есть дача, а если есть, там наверняка давно работают специальные люди и выпалывают весь конский щавель или все давно заасфальтировано… Короче, я работал в одной газете, она располагалась в некоем московском учреждении, там был буфет, и мы, естественно, ходили в этот буфет. И там работала жуткая совершенно баба, лет шестидесяти, которая хоть по должности и была судомойкой, но орала на всех так, как будто она и была хозяйка этого заведения, и учреждения, и газеты. Она даже делала замечания тем, кто засиживался в буфете за разговором, когда все уже было съедено. Безобразно орала. И я ее очень не любил и старался не ходить в этот буфет.
А потом я из этой газеты ушел, и она закрылась, а мне надо было зачем-то, уж не помню, подъехать в это учреждение. И я зашел в буфет по старой памяти, из столь присущих мне ностальгических соображений, — и эта бабка кинулась ко мне с распростертыми объятиями, заставила съесть котлеты и выпить кисель, и стала рассказывать, как учреждение закрывают, и буфет закрывают, и дом сносят. «Из прежних-то и не заходит никто», — сказала она мне почти со слезами, хотя раньше нас всех терпеть не могла. И я долго не мог прийти в себя от тоски.
Дело не только в том, что всякая вещь на грани исчезновения становится благородней и милосердней (об этом хорошо было у Нагибина в дневнике — как один его друг умирал и стал выглядеть талантливым, гордым, обреченным красавцем, а потом вдруг выздоровел и превратился в прежнего пошляка). Дело в том, что буржуй по сравнению со своими истребителями — всегда довольно приличное существо. Он устоялся, устаканился, научился уважать какие-никакие моральные нормы, потому что сбережение капитала, в отличие от его приобретения, всегда требует соблюдения этих нехитрых правил. Он перестал быть яростным корсаром, завел детей, умиляется им, все такое. А тот, который придет ему на смену, никаких детей еще не завел и не собирается, ему пока больше нравится растлевать чужих; он голодный варвар, движимый похотью и завистью, он придумал себе красивый социальный лозунг насчет экспроприации экспроприаторов — и вот идет, топочет, слышен его топот чугунный по еще не открытым Памирам… Особенно двусмысленна в этой ситуации роль поэта, которому уж так надоели буржуа, что он записывает в дневнике, подобно Блоку: «Отойди от меня, буржуа, отойди от меня, Сатана!». Все его раздражает — фортепьяна, дочка, жена, канарейка… А что он тебе сделал, этот сатана? Его же очень скоро не будет! Да, он тоже, конечно, умеет приспосабливаться — все-таки русский человек, иначе не выжить, — но и приспосабливается с некоторым достоинством, успело кое-что нарасти за годы буржуазного существования, нет уже того беспредельщика, который, как у Маяковского, «даже подпевал „Марсельезу“»… Буржуа внутренне готов стать бывшим, вот в чем главная причина моей запоздалой любви к нему. Он всем своим видом как бы говорит мне, поэту: да, я тот самый символ пошлости, тот самый фармацевт, который набивался к тебе в «Бродячую собаку», а ты его обличал. Тебе не нравились фармацевты. Ты все звал грядущего гунна. Ну вот, он пришел, и мне теперь, конечно, конец, но и тебе, тебе — понял ты это?
Надо было прожить в России сорок лет, чтобы дозреть и сказать: я люблю тебя, буржуа. Я никогда не стану тобой, но тех, кто идет тебе на смену, я уже научился раскусывать за версту. И никаким разрушением уже не обольщусь. Вот давеча был у меня разговор с двумя друзьями, старшим и младшим: режиссером и писателем Марком Р. — и журналистом-горячеточечником Александром М. Пился чай с коньяком, дискутировалась статья писателя и политика Эдуарда Л. «Да здравствует кризис». И мы с журналистом Александром М. горячо поддерживали точку Эдуарда Л. Ведь столько дутого сразу рухнет, такое очищение произойдет! А умный и хитрый Марк Р. говорит нам: ребята! Ро-бя-ты! Все приличное, как известно, первым и рухнет, а все неприличное благополучно выживет, и ни один кризис тут еще не усложнил жизни, а все они ее только упрощали, в чем ничего хорошего по определению нет!
И я подумал: а ведь прав Марк. Можно, как его великий ровесник Эдуард, любимый мой поэт и прозаик, опять приветствовать грядущего гунна, но как раз топ-менеджер выплывет, а насчет Эдуарда я совсем не уверен. Ему, конечно, мало надо, и выживет он в любых условиях, но будет ли ему где печататься — не знаю. А главное — будет ли кому к нему прислушиваться? Буржуа — это пошло, нет слов, но буржуа умеет работать. Выучился как-то в последние десять лет. Он поверил, конечно, новой стабильности, и сделал это совершенно напрасно, потому что никакой стабильности нет; он принял мыльный пузырь за твердую сферу, взгромоздился на нее, поставил стул, стол, комод, двуспальную кровать, оборудовал лужайку для гольфа… Но ведь это не он виноват, что ему предложили такой капитализм. Был бы другой — он строил бы другой, а ему предложили игру без правил. Не советскую (все-таки реальную и выключенную из мирового рынка с его периодическими кризисами), не западную (держащуюся на каком-никаком законе), а вот такую, российскую, никакую, висящую в пустоте. Пока есть соизволение — есть бизнес; пока есть нефть — есть деньги. Потом в этих правилах что-то нарушилось, потому что вечных пузырей не бывает; на счастье системы, ее очередное схлопыванье совпало со всемирным кризисом, который рано или поздно — скорее рано — будет благополучно преодолен. Можно свалить на Штаты, сказать, что они всем нам подгадили — в 1998 году Кириенко с Чубайсом валили на азиатский кризис, не то бы мы, конечно, проскочили. Но ясно ведь, что у них машина нырнула в промоину, а у нас лопнул пузырь. По масштабу, происхождению и последствиям это две совершенно разные катастрофы.
Однако наши буржуа в этом не виноваты: они строили тот капитализм, который им заказывали. По-другому в современной России не бывает. И эти мальчики-девочки уже совсем не те, что в девяносто восьмом: они кое-чему научились, стали трезвее и профессиональнее, исчезла их кислая спесь, появилась некая даже договороспособность, интерес к печатной продукции… Одна такая девочка — говорят, инициатор всей этой акции с георгиевскими ленточками, — все равно написала в интернете о том, что теперь, наверное, придется отказаться от красной икры; но большинство сверстников, односреднеклассников, высмеяли ее. В девяносто восьмом превыше всего были понты — сегодня мы теряем класс профессионалов, среди которых много вполне одаренных и очень приличных людей. Вопрос, конечно, в том, насколько бесповоротно мы его теряем — и какая мера упрощения потребуется от всех этих людей, чтобы выжить. Может, все и обойдется, как десять лет назад: ведь благодаря российскому разгильдяйству мы иногда проскакиваем те повороты, на которых рациональный Запад непременно рухнул бы в бездну. Но может ведь и не обойтись, вот я, собственно, о чем. А когда такое происходит десять лет, плодородный слой выскребается быстрей, чем восстанавливается, — и вот вокруг нас уже совсем другие пейзажи…
Милый, милый средний класс, с твоими закосами под интеллектуализм, с непременной «жежешечкой», с зарплатной вилкой от трех до десяти, с заграничными каникулами, невротизированными детьми, глянцем, гламуром, работой, сводящейся к спекуляциям (тоже дело, тоже ума требует)! Я впервые в жизни смотрю на тебя с тихим умилением. Я слишком хорошо помню, какие гладкие нашенские рожи сменили тебя в начале двухтысячных и какие вертикальные лифты пришли на смену твоему невинному карьеризму. Я никогда больше не буду приветствовать грядущего гунна.
Впрочем, гунн ведь тоже со временем заведет себе канарейку.
На канарейку вся надежда.
№ 22(39), 19 ноября 2008 года
Проспи, художник
В начале нулевых мы с прекрасным петербургским критиком Никитой Елисеевым придумали журнал «Лузер». Потом, когда Россия стала подниматься с колен и актуальней стали родные названия, мы переименовали его в «Лох», а когда русским стало все вокруг, от жизни до пионера, нам понравился вариант «Русский лох» или даже «Архилох», потому что наш круче всех. Мы и теперь еще, встречаясь в Москве или Питере, любим пофантазировать о нашем антиглянцевом глянце. По-моему, сегодня это очень актуальный проект. Мы открыты для контактов. Журнал должен быть дешев в производстве: газетная бумага, отвратительные черно-белые фотографии, крайне примитивная верстка — короче, полное соответствие формы содержанию.