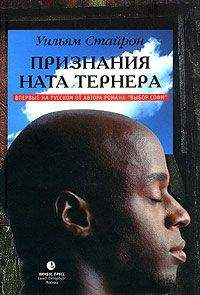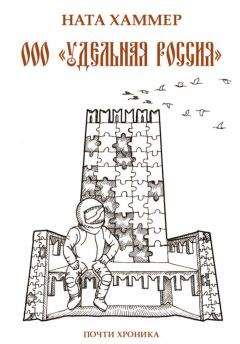Норман Мейлер - Нагие и мёртвые
— Вот что я скажу тебе, Роберт. Я не знаю, где ты набрался всех этих дурацких идей о профсоюзах. Неужели ты сомневаешься, что это просто банда гангстеров? Неужели ты думаешь, что моим рабочим было бы лучше, если б они не зависели от меня? Клянусь Христом, я вытягиваю их из нищеты. Всякие там… рождественские премии… Почему ты не держишься в стороне, ведь ты ни черта не понимаешь, о чем говоришь.
— Я сожалею об этом, но ты никогда не сможешь понять, что такое патернализм.
— Может быть, я не разбираюсь в этих громких словах, но зачем же кусать кормящую тебя руку?
— Больше тебе не надо будет этого опасаться.
— Ну что ж, ладно…
После множества таких разговоров и ссор Хирн раньше срока возвращается в университет, нанимается посудомойщиком в ресторан и не бросает эту работу даже после начала занятий. Предпринимаются попытки примирения. Айна в первый раз за три года приезжает в Бостон и добивается непрочного мира. Он изредка пишет домой, но денег брать не хочет; предпоследний год учебы заполнен скучной работой по распространению подписки на университетские издания, глажением и стиркой белья студентам младшего курса, случайной работой по уикэндам и выполнением обязанностей официанта в столовой пансионата вместо прежней работы судомойщика.
Ни одно из этих занятий ему не нравится, но он находит в них что-то для себя, какую-то новизну ощущений и веру в собственные силы. Мысль о получении денег от родителей никогда больше не возникает.
Он чувствует, как повзрослел за этот год, стал крепче, удивляется этому и не находит объяснения. «Может быть, во мне проявляется отцовское упрямство?» Происхождение наиболее ярких черт характера, преобладающих привычек обычно необъяснимо. Он прожил восемнадцать лет в вакууме, пресыщенный возможностями удовлетворения любых желаний, какие могут прийти в голову юноше.
Затем он попал в новый, сокрушающий все авторитеты мир — провел два года в колледже, духовно насыщаясь, сбрасывая скорлупу и расправляя щупальца. Внутри него совершался процесс, которого он полностью не осознавал. В итоге — случайная стычка с отцом, вылившаяся затем в бунт, который не соответствовал по своей силе причине, его вызвавшей.
Старые друзья по-прежнему с ним, все еще привлекательные, но их обаяние потускнело. В ходе постоянной, день за днем, тяжелой работы официантом, библиотекарем и репетитором студентов-новичков у него появилось какое-то нетерпение. Все слова и только слова, а ведь существуют и другие реальности — например, необходимость поддерживать диктуемый нуждой распорядок жизни. Временами он заглядывает в редакцию журнала, мучается на немногих посещаемых им лекциях.
— …Число семь имеет глубокое значение для Томаса Манна.
Ганс Касторп провел семь лет на вершине горы, и, если помните, на первые семь дней писатель обращает наибольшее внимание. Имена большинства героев его книг состоят из семи букв: Касторп, Клавдия; даже Сеттембрини подходит под правило, поскольку латинский корень его имени означает семерку.
Небрежные заметки, благочестивое одобрение.
— Сэр, — спрашивает Хирн, — что все это значит? Скажу откровенно, я считаю роман напыщенным и скучным. Мне кажется, все это обыгрывание числа «семь» представляет собой яркий пример немецкой дидактики, распространение прихоти на все виды критической трескотни; виртуозно, возможно, но все это не трогает меня.
Его речь вызывает некоторый переполох, даже дискуссию среди присутствующих. Прежде чем продолжить занятия, лектор обобщил ее, но для Хирна все это — типичное проявление нетерпения. В предыдущем году он не сказал бы этого.
У него даже наступает политический медовый месяц. Он читает Маркса и Ленина, вступает в общество Джона Рида и подолгу спорит с его членами.
— Я не понимаю, как вы можете говорить все это о синдикалистах. Они сделали много хорошего в Испании, и если нельзя добиться большего сотрудничества между всеми составными частями…
— Хирн, вы недооцениваете связанных с этим разногласий.
Между синдикалистами и нами исторически сложился глубокий политический антагонизм, и никогда еще не было в истории более неподходящего момента для отвлечения масс несбыточными лозунгами и несогласованной утопией. Если вы потрудились бы изучить историю революции, то поняли бы, что в критические моменты марксисты слишком чувствительны, устраивают политические дебоши и склонны к установлению крепостнических порядков с террористами во главе. Почему вы не познакомитесь с карьерой батьки Махно в тысяча девятьсот девятнадцатом году? А вы знаете, что даже у Кропоткина анархические эксцессы вызвали такое отвращение, что он не занял никакой позиции во время революции?
— Должны ли мы, в таком случае, проиграть войну в Испании?
— А что, если ее выиграют борющиеся на нашей стороне ненадежные элементы, которые не связаны с Россией? Как вы полагаете, долго ли они выдержат при существующем сейчас в Европе фашистском нажиме?
— Пожалуй, мне не под силу такой далекий взгляд в будущее. — Он критически осматривает комнату общежития, семерых членов общества, растянувшихся кто на диване, кто на полу, кто на двух потертых стульях. — Мне кажется, что следует делать то, что более выгодно в данный момент, а все остальное обдумывать потом, позднее.
— Это буржуазная мораль, Хирн, достаточно безвредная для средних классов, если отбросить их инертность. Проповедники же морали в капиталистическом государстве пользуются теми же моральными принципами, но для достижения противоположных целей.
После собрания президент общества разговаривает с ним за кружкой пива в баре Макбрайда. Его серьезное лицо, чем-то напоминающее сову, очень печально.
— Хирн, признаться, я приветствовал ваше вступление в общество. Я проверил себя и понял, что это у меня остатки буржуазных предрассудков. Вы выходец из класса, которому я все еще до некоторой степени завидую, поскольку не мог получить полного образования; тем не менее я намерен попросить вас выйти из общества, так как ваш уровень развития не позволяет вам научиться у нас чему-нибудь.
— Я буржуазный интеллигент, так что ли, Эл?
— Что правда, то правда, Роберт. Вы не принимаете ложь этой системы, но это неосознанное сопротивление. Вы хотите быть безупречным. Вы буржуазный идеалист и по этой причине ненадежны.
— А не выглядит ли такое недоверие к буржуазным интеллигентам несколько старомодным?
— Нет, Роберт. Оно основано на учении Маркса, и опыт последнего столетия доказывает его мудрость. Если человек вступает в партию по духовным или интеллектуальным побуждениям, он наверняка выйдет из нее, как только тот психологический климат, который побудил его вступить, изменится. Из человека же, пришедшего в партию потому, что экономическое неравенство унижает его каждый день в его жизни, выходит хороший коммунист. Вы не зависите от экономических соображений, не знаете, что такое страх, у вас совсем другое сознание.
— Я думаю уйти, Эл. Но мы останемся друзьями независимо от этого.
— Конечно.
Они довольно неловко пожимают друг другу руки и расстаются.
«Я проверил себя и понял, что это у меня остатки буржуазных предрассудков». «Вот это завернул», — думает Хирн. Ему смешно, но в то же время он чувствует легкое презрение. Проходя мимо универмага, он мельком смотрит на свое отражение в стекле витрины, обратив внимание на свои черные волосы и крючковатый тупой нос.
«Я больше похож на еврея, чем на отпрыска человека со Среднего Запада. Если бы у меня были светлые волосы, Эл действительно проверил бы себя».
Да, но там было и другое. «Вы хотите быть безупречным». Возможно, это, а может быть, и что-то другое, менее определенное.
На последнем курсе он отходит от прежних друзей, увлекается игрой в футбол в университетской команде и, к своему удивлению, испытывает от этого огромное удовлетворение. Одну игру он никогда не забудет. Овладевший мячом игрок команды противника прорывает линию их обороны, но его тут же задерживают; он стоит, беспомощно озираясь, и в этот момент Хирн атакует и вырывает у него мяч. Он налетает на противника с такой силой, что того уносят с поля с вывихнутым коленом, Хирн бормочет вслед:
— Как чувствуешь себя, Ронни?
— Ничего, ничего. Хорошо атаковал, Хирн.
— Извини меня, — говорит Хирн, но сам думает при этом, что извиняться ему не за что. Был момент внезапно охватившего его злобного удовлетворения, когда он увидел, что игрок противника беспомощно стоит, открытый для удара. Он не испытал такого циничного удовольствия даже после того, как попал в сборную футбольную команду университета.
В других отношениях он ведет себя так же. Он достигает недоброй славы, соблазнив дебютантку с Де-Вулф-стрит. Он даже сближается с некоторыми знакомыми по первому курсу, которых узнал через своего товарища по комнате, ставшего наконец членом Спикерс-клуба. Теперь, на четвертом году, он получает запоздалое приглашение на танцы в Бреттл Холл.