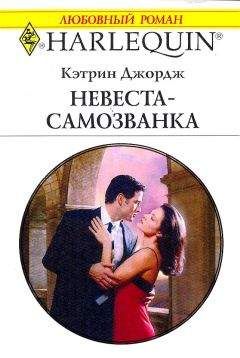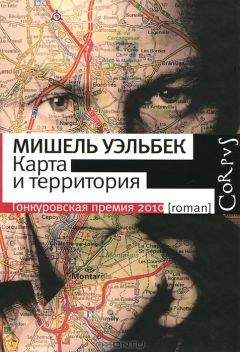Мишель Уэльбек - Возможность острова
Перед тем как поставить точку в своём рассказе, я в последний раз вспомнил о Венсане, подлинном вдохновителе этой книги и единственном человеке, внушавшем мне чувство, глубоко чуждое самой моей природе, — восхищение. Венсан безошибочно уловил во мне наклонности шпиона и предателя. Шпионы и предатели появлялись в истории человечества и раньше (впрочем, не так уж часто, всего-то несколько раз и через большие промежутки времени, даже удивительно, какими люди оказались ослами — вернее, баранами, весело бегущими на бойню); но, похоже, мне первому довелось жить в эпоху, когда, в силу развития технологий, моё предательство могло получить максимальный резонанс. Впрочем, я мог всего лишь ускорить неизбежную историческую эволюцию, дать ей теоретическое обоснование. Людей чем дальше, тем сильнее станет привлекать жизнь свободная, безответственная, целиком посвящённая неистовой погоне за наслаждениями; им захочется жить так, как живут уже сейчас, среди них kids, а когда бремя лет наконец придавит их, когда они больше не смогут выдерживать накал борьбы, они поставят точку — но прежде примкнут к элохимитской церкви, сдадут на хранение свой генетический код и умрут в надежде бесконечно длить такое же, полное удовольствий существование. Таково направление исторического развития, его долгосрочный курс, уготованный не одному только Западу, — Запад лишь задаёт его, расчищает путь, как всегда со времён Средневековья.
И тогда род человеческий в нынешней своей форме исчезнет, и возникнет нечто иное, чье название пока неведомо и что станет, может быть, хуже, а может, лучше, но наверняка умереннее в своих притязаниях и уж во всяком случае спокойнее: не стоит недооценивать роль нетерпения и одержимости в человеческой истории. Не исключено, что этот тупица Гегель был в конечном счете прав и я действительно всего лишь уловка разума. Вряд ли вид, которому суждено прийти нам на смену, будет состоять из таких же общественных существ; уже во времена моего детства единственная идея, способная положить конец любым спорам и примирить все разногласия, идея, вокруг которой чаще всего возникал спокойный, без всяких осложнений, безоговорочный консенсус, звучала примерно так: «В сущности, все мы рождаемся одинокими, одинокими живем и одинокими умираем». Эта фраза понятна для самых неразвитых умов, и она же венчает собой теории самых изощренных мыслителей; в любой ситуации она встречает всеобщее одобрение, едва звучат эти слова, как каждому кажется, что он никогда не слышал ничего прекраснее, глубже, справедливее — причем независимо от возраста, пола и социального положения собеседников. Это бросалось в глаза уже в моем поколении, а в поколении Эстер стало еще очевиднее. В долгосрочной перспективе подобные умонастроения не слишком благоприятны для насыщенных социальных контактов. Общество как таковое изжило себя, сыграло свою историческую роль; без него нельзя было обойтись на начальном этапе, когда человек только обрел способность мыслить, но сегодня оно превратилось в бесполезный и громоздкий пережиток. То же самое происходит и с сексуальностью — с тех пор как искусственное оплодотворение вошло в повседневный обиход. «Мастурбировать — значит заниматься любовью с тем, кого по-настоящему любишь» — эту фразу приписывали многим знаменитостям, от Кейта Ричардса до Жака Лакана; как бы то ни было, человек, высказавший ее, опередил свою эпоху, и, как следствие, его мысль не получила того отклика, какого заслуживала. Впрочем, на какое-то время сексуальные отношения, безусловно, сохранятся — в рекламных целях и как основная сфера нарциссической дифференциации, — но станут принадлежностью узкого круга знатоков, эротической элиты. Нарциссическая борьба продлится до тех пор, пока не исчезнут добровольные жертвы, готовые получать в ней свою порцию унижений; быть может, она продлится до тех пор, пока не рухнут сами общественные отношения, и станет последним их уцелевшим звеном — но в конце концов все равно угаснет. Что же до любви, то ее больше не стоило брать в расчет; наверное, я — один из последних людей своего поколения, кто так мало любил себя, что сохранял способность любить кого-то другого, да и то редко, всего дважды в жизни, если быть точным. Ни индивидуальная свобода, ни независимость не отставляют места любви, все это попросту ложь, более грубую ложь трудно себе представить, любовь есть только в одном — в желании исчезнуть, растаять, полностью раствориться как личность в том, что называли когда-то океаном чувства и чему, во всяком случае в обозримом будущем, уже подписан смертный приговор. Года три назад я вырезал из «Хенте либре» фотографию: мужчина — виден был только его таз — наполовину, так сказать, не спеша, погружает член в вагину женщины лет двадцати пяти, с длинными каштановыми локонами. На всех фотографиях в этом журнале для «свободных партнеров» всегда было изображено примерно одно и то же; чем же меня так пленил этот снимок? Женщина, стоя на коленях и на локтях, смотрела в объектив так, словно ее удивило это неожиданное вторжение, словно оно случилось в тот момент, когда она думала совсем о других вещах, например, что надо бы протереть пол; впрочем, она выглядела скорее приятно удивленной, в ее взгляде сквозило томное, безличное удовлетворение, словно на этот непредвиденный контакт реагировал не столько ее мозг, сколько стенки влагалища. Сама по себе ее вульва выглядела мягкой и нежной, правильного размера, комфортной, во всяком случае, она была приятно приоткрыта и, казалось, открывалась легко, по первому требованию. Вот такого, приветливого, без трагедий и, так сказать, без затей гостеприимства я сейчас и хотел от мира, только его и ничего больше; я понимал это, неделями разглядывая фотографию; но одновременно понимал, что больше мне этого не получить, не стоит и пытаться, и что отъезд Эстер — не мучительный переходный период, а абсолютный конец. Наверное, теперь она уже вернулась из Америки, даже наверняка вернулась, мне казалось маловероятным, чтобы она стала выдающейся пианисткой, всё-таки в ней нет ни особого таланта, ни толики безумия, которая всегда ему сопутствует; по сути, она очень даже рациональное создание. Вернулась или нет, это ничего не меняло: я знал, что она не захочет меня видеть, что для неё я — далёкое прошлое, честно говоря, я уже и сам для себя отчасти стал далёким прошлым, на сей раз мысль вернуться в шоу-бизнес, да и вообще вступить хоть в какие-то отношения с себе подобными покинула меня окончательно, Эстер опустошила меня, я истратил на неё последние силы и теперь чувствовал себя разбитым; она принесла мне счастье, но, как я и предсказывал с самого начала, она же принесла мне смерть; и всё-таки это предчувствие нисколько меня не поколебало: правду говорят, что нам дано встретиться с собственной смертью, хоть раз увидеть её в лицо, что каждый из нас в глубине души это знает; и если на то пошло, пусть лучше у смерти будет не привычное дряхлое лицо старости и уныния, а — в порядке исключения — лицо удовольствия.