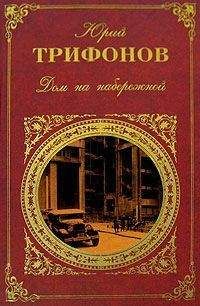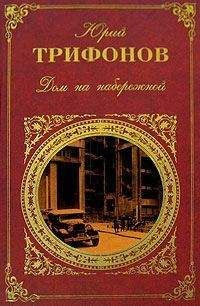Юрий Трифонов - Студенты
— В зубиле ты понимаешь…
— Да, в зубиле я понимаю! — вдруг резко сказал Балашов. — А ты, поэт великий, опять норму не даешь! Прошлую неделю было выправился, а теперь снова здорово?
— А я, может, в многотиражку пойду работать, если хочешь знать… — проворчал Батукин.
Он смотрел на Вадима упорно, исподлобья, с напряженным ожиданием и, вероятно, с надеждой, и Вадим понял, что ему нельзя сейчас целиком поддерживать резкую критику Балашова, как бы ни была она справедлива. Надо было найти какие-то другие, настоящие слова, чтобы и правду сказать и одновременно ободрить юного поэта.
— Написать хорошее стихотворение очень трудно, — помолчав, медленно начал Вадим. — Это удается не сразу даже способным, талантливым людям. Ваши товарищи правильно заметили: не может быть в поэзии «цеха вообще» и «описания вообще». В поэзии все должно быть точно. И главное в ней — это не звонкая рифма, а интересная, глубокая мысль. А уж мысль приведет рифму. Но я вам говорю, — и Вадим вдруг встал и даже ударил ладонью по столу, — что Батукин будет писать стихи! И настоящие стихи! Смотрите, как он хорошо сказал о молодом пареньке слесаре в стихотворении «Ночная смена»… — И Вадим прочитал на память одно четверостишие.
— Да-а, здорово!.. — сказал кто-то словно с удивлением.
— С этим я не спорю, — сказал Балашов.
И все, заулыбавшись, посмотрели на Батукина, который покраснел смущенно и радостно и, пытаясь скрыть улыбку, низко опустил голову. А Вадим подумал с гордостью, что он одержал только что маленькую педагогическую победу.
Было уже поздно, и Вадим предложил закончить занятие. Несколько человек поднялись и ушли, но остальные пожелали послушать еще одного автора. Это был электротехник из цеха термообработки Шамаров — молодой человек с фигурой тяжелоатлета. У него было румяное, приветливое лицо и такие светлые волосы, что при электрическом свете казались совсем белыми. Он читал свой рассказ — единственный написанный им в жизни. Рассказ был на военную тему, очень короткий, простой и скорее походил на фронтовой очерк. Два товарища разведчика посланы в тыл к немцам за «языком». Они захватывают немецкого офицера, отбиваются от погони и доставляют «языка» в свою часть. По дороге они переплывают реку. Немец дважды пытается утонуть, но они «спасают» его, выволакивают на берег, делают ему искусственное дыхание и приводят в чувство. Задание выполнено. Конец. Рассказ так и назывался: «Задание».
— Это взято из жизни? — спросил Вадим.
— Можно сказать, да, — кивнул Шамаров. Он говорил тихо и невнятно и все время, пока читал, вытирал лоб и щеки платком. Он сразу понравился Вадиму и его немудрящий, написанный без всякой претензии рассказ — тоже.
Неожиданно чей-то голос из задних рядов сказал:
— Семен, ты же не так рассказывал…
— А как? — спросил Вадим.
— То одно, и это одно… — пробормотал Шамаров, нахмурившись.
— Нет, нам интересно: а как же было на самом деле? Или вы не хотите рассказывать?
— Да что рассказывать… — Шамаров вздохнул и заговорил после паузы еще глуше и невнятней. — Поплыли мы через реку, а по нас стрельбу открыли. Еще и ракету над рекой повесили. И вот Николай, дружок мой, говорит: бросай, мол, фрица, ныряй в разные стороны. Конечно, с ним, чертом, ни нырнуть, ни плыть быстро невозможно… да… А я говорю: плывем, мол, дальше. А он испугался, однако, и откачнулся в сторону, тут его и подшибли. «Тону, кричит, спасай!» А как тут его спасать! На мне этот гад в пять пудов, еле волоку, а бросить права не имею… да… А дальше уж, как написано.
— А Николай… — ахнула Муся, — утонул?
— Утонул, — сказал Шамаров, посмотрев на нее. Помолчав, он сказал: — Разве можно это писать? Хотя командир наш, гвардии майор Ершов, сказал, что я правильно сделал. А все равно так не опишешь…
— А мне кажется, надо было именно так писать, как было в жизни, — сказал Вадим с волнением. — Был бы замечательный рассказ о воинском долге! Ведь он же струсил, бросил вас?
— Струсишь тут… Не то что струсишь, ума лишиться можно. Когда тебя, как утку, подстрелить норовят, а у тебя обороны никакой. Тут не то что… тут… понятное дело.
— Но вы же не струсили!
— А как же? И я струсил. Это, конечно, описать нельзя, как в жизни. А было жутко! И светло, главное, никуда не спрячешься. Да что говорить!.. Мы как братья с ним, два года…
Он умолк, резко опустив голову, и все на минуту замолчали. Разговор так внезапно вышел за рамки литературного обсуждения, что Вадим растерялся и не знал, что ему надо говорить.
— Ты его переделай, Семен, как советуют, — сказал Балашов.
Шамаров покачал головой:
— Нет, не стану переделывать. — И добавил тихо и твердо: — Что хотелось, то и написал.
И Вадим понял, что убеждать Шамарова переделывать рассказ бесцельно, да и не нужно. Перед ним был человек, который вовсе не собирался быть писателем. Он написал о том, что могло бы быть и как ему хотелось, чтоб было.
— А вообще вы собираетесь писать? Учиться этому? — спросил Вадим.
— Учиться? — Шамаров недоверчиво усмехнулся. — Это изолятор поставить — научишься, а книги писать разве научишься? Тут учись не учись, а все равно гений нужен. Гений или талант, что-нибудь одно. Вот Максимов, возьмите, — он кивнул на одного из парней, — любую вещь вам нарисует, а меня хоть сейчас убей, я и собаки не нарисую…
Когда занятие кончилось, — было уже около одиннадцати, — к Вадиму подошел Балашов и поблагодарил от лица всех кружковцев. Вадима окружили, спрашивали, кто проведет занятие в следующий раз и о чем будет лекция. Вадим был взволнован: он чувствовал, что сегодняшнее занятие в общем всем понравилось, несмотря на такое неудачное начало. И ему захотелось сказать, что следующий доклад он наверняка сделает лучше, намного интересней, гораздо интересней.
— Доклад у меня, конечно, вышел не блестящий, — сказал он, улыбнувшись смущенно. — Ну… короче говоря, первый блин комом. В следующий раз, я думаю, лучше будет.
Ребята, окружившие его, заговорили хором, улыбаясь сочувственно и понимающе:
— Да что вы, Вадим Петрович!
— Понятное дело…
— Все нормально, чего там!..
— Конечно…
— Ну, пусть будет по-вашему! — сказал Вадим и рассмеялся облегченно, весело. — Это я так, про себя подумал.
На улицу вышли большой группой, но пока Вадим дошел до метро, у него остался только один попутчик — самый юный член литературного кружка, Игорь Сотников. Он молча и независимо шагал рядом с Вадимом и долго не решался вступить в разговор.