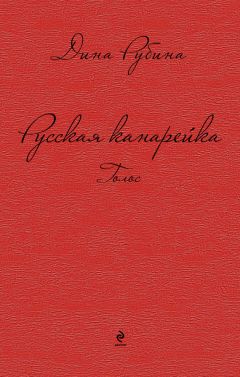Дина Рубина - Русская канарейка. Голос
— А на каком плавала? — уточнил Леон с улыбкой, предвкушая очередную сказку Шехерезады.
Ему нравилась ее манера рассказывать. Барышня говорила: «Интеллигентный человек принимает тебя не по одежке (одежка — вздор!), а по речи». Исходя из этого, Айя вполне могла оказаться беглой аристократкой: за ее манерой говорить и рассказывать чувствовалась семейная муштра «старой школы» — видимо, бабка потрудилась: правильные ударения, выдержанные паузы… И только руки-беглянки все рвались что-то подтвердить, что-то исправить, добавить, украсить… украсть.
— Я плавала на арабской рыбачьей лодке! — гордо и спокойно проговорила она.
— Что-что?! — Он засмеялся и ткнулся носом ей в ухо.
— Я работала евреем на арабской лодке в Газе, — повторила она серьезно. — Давно, когда еще Газу контролировали израильтяне.
Он умолк и глянул сбоку в ее профиль: Айя старательно ровно держала штурвал, старательно прямо смотрела перед собой. При этом совсем не была напряжена. А то, что она не способна ничего выдумать, уже было ясно.
— Не понял, — сказал он. Хотя, конечно, знал: в те времена пограничный израильский патруль действительно не выпускал в море арабскую лодку без еврея, так что многие арабские рыбаки нанимали искателей приключений, безработных репатриантов и туристов на период лова. Это она ему в точности и растолковала. Довольно выгодно: день работы — сто шекелей, да еще рыбы немного. — Вот как. Значит, ты и там успела побывать, — небрежным, почти безразличным тоном заметил он.
Она потерлась бритым затылком о его щеку и сказала:
— Ага… Я же тебе рассказывала о Михальке. Она родом из кибуца на севере Израиля. Мы с ней в Бразилии встретились, она там после армии гуляла, и так подружились, что потом уже всюду были не разлей вода. И когда она к себе умотала, я скучала, скучала по ней… Потом взяла билет и прилетела! Свалилась на голову. Думала, дней на пять, а прожила там полгода.
— Почему? — спросил он нейтральным тоном.
Она помолчала. Пожала плечами:
— Да просто! Просто там хорошо… Очень мое место, особенно Галилея. Немного похоже на Алма-Ату, тоже горы кругом… Короче, сначала я работала в кибуце у Михаль, на птичнике, потом перекочевала в один сельскохозяйственный кооператив под Ашкелоном — собирала там виноград, укладывала в ящики…
* * *Да, жгучая работенка была, с избытком витамина D. Торчишь на солнце до полного обугливания шкуры…
Однажды они с ребятами сидели на мешках под натянутым зеленым тентом — под ним кисти крупного зеленого винограда казались небывалыми плодами, раскрашенными каким-нибудь Гогеном, — рвали руками свежие теплые питы, принесенные студентом Гошей из ближайшей лавочки, макали их в банку с тхиной и заедали виноградом — не худший обед на свете. Вот тогда кто-то из ребят лениво сказал, что арабы ищут еврея в лодку. И то ли к тому времени она объелась виноградом и ее на рыбное потянуло, то ли понадеялась, что в море легче жара переносится… Записала на использованном проездном номер какого-то мобильника, к полудню о нем забыла, а вечером нашла выпавший из правой туфли проездной и позвонила.
Семья арабских рыбаков из Газы, жила морем. Их было семеро братьев, дружных, молчаливых.
Заправлял всем отец, старый Халед, беспрекословный авторитет у сыновей. Он и улов распределял, как разделил свой огромный четырехэтажный дом: этаж — женатому сыну, пол-этажа неженатому. И был очень строг: велел довольствоваться лишь одной женой и держаться подальше от ХАМАСа. Изъяснялась с ними Айя немного по-английски (они знали пару-другую слов), через неделю стала чуток по-арабски понимать: слово там, слово тут… А что там особо понимать: «сеть» — «масида», «бросай» — «итарахи», «вытягивай» — «исхаби», «помоги» — «ис’ади»; «ты — хорошая девушка» — «интишаба мниха»…
В море выходили с шести утра через контрольно-пропускной пункт Эрез. Там к ним сразу подходил катер военной полиции: проверка документов. И тут пригодился старый, но годный Михалькин паспорт — она когда-то его теряла, получила новый и вдруг обнаружила пропажу в прошлогодних джинсах. На фотографии они были не то чтобы сильно похожи, но однотипны: обе стрижены под мальчика, обе с пирсингом, причем в одних и тех же местах: бровь, ноздря, нижняя губа. Этот пирсинг и сбивал с толку; в черты лица никто особо не всматривался. Да Айя вообще изображала глухонемую, а уж шляпа с полями на ней всегда была нахлобучена по самые брови…
И разверзалась вокруг такая ядреная, взахлеб, синева, что кожа становилась оранжевой: блеск нестерпимый, синий безжалостный блеск.
Лодка у них метров семь была, палуба открытая. Рыбаки бросали сеть, в которую попадалась вначале всякая шелупонь — крабы, мелкая рыбешка. Если впереди по носу появлялся косяк рыб, его обходили сетью. Бывало, что шел локус — это, считай, везучий день выпал: локус — рыба большая, дорогая, до метра в длину, и весит пятнадцать, а то и двадцать кило. Но и сардины — тоже удача.
Иногда выходили в ночь целой флотилией в пять-семь лодок. И это уже совсем другой лов: надо застыть, замереть и выждать. Поэтому все укладывались спать прямо на палубе. На носу факелы горят, пламя мотается на ветру, как огненная тряпка с траурной каймой. Черная гладь моря, и на ней — огни, огни… Может дождь припустить, и тогда вода вскипает седой дрожью… Лежишь на корме, накрывшись с головой какой-нибудь курткой, и одним глазом видишь, как за кормой пузырится вода от мотора. Вокруг фосфорическое, дьявольское свечение моря, на тебя катят фиолетовые валы, и ты лишаешься прошлого и забываешь, что там случилось с тобой пять, десять лет назад. И какие такие апортовые сады были в твоей жизни. Одно только чистое могучее море, волны, сильные фигуры молчаливых рыбаков. А еще — летучие рыбы! Огромные крылья! Выскакивают перед лодкой на метр-полтора и летят над водой метров сто. Ловишь их голыми руками, а они тебе влетают то в голову, то в живот…
Когда она рассказывала, ее пылкие руки, и сами похожие на летучих рыб, не удерживались на штурвале, взлетали, мелькали, кружили, охватывая целый мир — волны, рыбаков, старые чиненые сети. Леон, стоя у нее за спиной, то и дело перехватывал штурвал.
— Не устала? — спросил он. Почему-то захотелось, чтоб она ушла от его опасных берегов, вернулась в мирное Андаманское море, рассказала о чем-то другом. Ему вообще неуютно становилось от этих рассказов, будто он боялся что-то еще услышать о ней, что, как вчера ночью, могло вывести его из равновесия.
Почему этой девушке так легко, с первого слова удавалось проникнуть в глубину его всегда запечатанного нутра, почему он не мог и не хотел уклоняться от этих болевых касаний? Почему с минувшей ночи ему так хотелось вновь и вновь, нащупав тонкую нить ее шрама, разглаживать его, будто неутомимыми прикосновениями можно навсегда растворить беду в беспамятстве счастья?