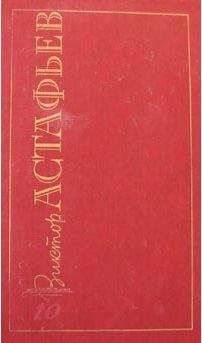Виктор Астафьев - Царь-рыба
И все же что-то было не так с зимовьем, потревожено оно вроде бы чем-то, мох на тропке притоптан, на каменьях сбит и заголен; торчит пенек недавно срубленной ольхи; труба в черной кайме свежей сажи, стало быть, тоже не вдавне топлена; «сад» шибко смят, утоптан у рябящего устья тальца, смородинник и вовсе обломан; на дне Эндэ блеснула крышка консервной банки; к стене избушки прислонено на скорую руку вырезанное удилище, болтается оборванная жилка с городским пластмассовым поплавком. «Туристы! — взвыл Аким. — Добрались, падлы! — Отрывисто, испуганно аалаяла у зимовья Розка. — Заблудились, в рот им пароход!»
Приткнув долбленку к берегу, Аким подтянул ее, выгреб из носа лодки патронташ, дождевик, заглянул в ружье — заряжено ли, и, внутренне взъерошенный, ожидал, как, держа пальцы в мелких карманах драных джинсов, космачом, без шапки, спустится от избушки заросший человек, беспечно поздоровается и выдаст что-нибудь кисло-шутливое насчет того, что приблудились они с дружками, задичали, съели в избушке все, кроме бревен, и стойко ждали, когда явится хозяин зимовья — охотник, накормит, напоит и выведет или укажет им дорогу, спасая их для потомства и будущих великих дел. Любителей странствовать по диким местам развелось полно, и они не только не трудятся, чтобы поучиться ходить по ним, но даже и расспросить ленятся, что это за оказия такая, тайга-то, пригодна ль она для прогулок?
Никто от избушки не спускался. Розка лаяла все растревоженной и звончей. Аким поспешил к зимовью, на ходу отмечая взглядом приметы нашествия: ведро, полное дождевой воды; пенек ольхи и щепа закраснели; муть отстоялась в человеческом следу — судя по вдавышу, сапог сорок второго размера, неделю, если не больше, не выходили. Ага, окурок! Окурок давний и совсем раскисший, и сигарета докурена до фильтра — бережливый, опытный турист был или весь издержался? На подпаренном мохом крылечке, вросшем в землю, двумя пестрыми куропатками сидели драные, в пятках смятые кеды подросткового размера. «Тихий узас! — волосы на голове Акима зашевелились. — Мужик с парнишкой! Умерли!..»
Аким толкнул дверь — она не подалась. Он опустил с плеча ружье, прислонил его к стене, схватил деревянную ручку обеими руками, пнул дверь ногой, навалился плечом. Сыро хлюпнув, она нехотя отворилась. Акима втащило на двери в жилье и там чуть не сшибло едучим, застоявшимся запахом гнили и мочи.
Промаргиваясь на мутное, в серых разводах окошко с пятнышками прилипших к стеклу комаров и лесной тли — окно не протирали, некогда было или не догадались, Аким обхватывал глазами избушку: с подоконника, тесанного нехитрым топором безвестного охотника, свисала грязная цветастая кепочка, вытянув целлофановый козырек утиным клювом, — при бедном таежном убранстве избушки совсем неуместная и жалкая вещь; на столе тюбик противокомариной мази, грязный, почти выдавленный; здесь же темные очки в перламутровой оправе; золотые часики, светящиеся цветком-стародубкой; россыпью неошелушенные кедровые шишки; котелок почему-то на полу, в нем деревянная ложка с рыжим черенком; топорщилась рваной жестью неумело открытая, уроненная набок банка, из нее вытекла, плотным слоем пыли облипла лужица; голубая сумка с голубем на боку; изодранный городской плащик-болонья; громадный рюкзак с раздернутой пастью; топор — чем-то очень знакомый топор, рядом чехол от топора валяется; возле печи щепа, ореховый мусор, печь давно холодная, в избушке настоялся мозглый смрад.
Кучей лежащее на нарах тряпье, сверху придавленное изъеденной мышами оленьей шкурой, зашевелилось, и из-под него заглушенно донеслось:
— Го… Го… Го-го…
Аким бросился к топчану, поднял шкуру, разрыл тряпье, откинул скомканную палатку и в грязнющем спальном мешке обнаружил беспамятного, горячего подростка. Вместо лица у него был костяк, туго обтянутый как бы приклеенной к нему восковой кожей, оскалились зубы, заострился нос, выпятилась кость лба — печать тления тронула человека. Преодолевая отвращение, Аким сдернул с него изопрелые джинсы, вместе с ними паутиной стянулось что-то похожее на женские колготки, и скоро обнаружился фасонно шитый, вяло болтающийся на опавшей груди атласный бюстгальтер.
«Ба-а-ба-а-а!» — отшатнулся Аким.
Опомнился он лишь через несколько дней, когда вышел из избушки на берег Эндэ и увидел в устье тальца на промытом песке и стеклянно мерцающей гальке что-то пышноперое, головастое, по-поросячьи сыто, вроде бы и высокомерно поглядывающее круглыми зоркими глазками. Упятившись в заросли забоки, Аким махом слетал в избушку, схватил ружье и дуплетом опрокинул нежившегося на щекочущей струйке нарядного тайменя. Громом выстрела так рвануло по речке и по тайге, что вроде дверь распахнулась в мир, и Аким начал слышать все вокруг и ощущать себя.
Три дня и три бессонные ночи провел он в полной отключенности от мира, одолевая смерть, спасая человека — женщину иль девчонку — не поймешь, истощала от голода, иссохла от телесного жара и болезни, сделалась что утка-хлопунец, вся жидкая, кожа на ней оширшевелая. Одним горлом, безъязыко она выбулькивала: «Го-го, го-го, го-го…» Аким прилеплялся ухом к спине больной, и она, чуя его, переставала турусить, замирала в себе. Хрипело, хрюкало, постанывало под обеими лопатками, под обвисшей, дряблой кожей. По всему измученному, вытрясенному до костей телу шла испепеляющая работа, не одну, не две, а сразу несколько скрипучих сухостоин качала болезнь в глубине человеческого нутра, туда-сюда катала немазаную телегу. «Воспаление», — словно бы услышав смертный приговор кому-то из близких и бессильный облегчить участь приговоренного, Аким мучился тем, что сам вот остается жить, дышать, до человека же рукой подать, но он как бы недоступен и все удаляется, удаляется…
Не дал Аким ходу таким мыслям, переборол свою расслабленность и растерянность, перетряхнул аптечку, назвал себя вслух молодцом за то, что среди самых ценных грузов захватил ее с первым ходком в долбленке. Невелика аптечка, да и ту друг Колька навязал, а ценность ее в том, что главные в ней лекарства — против простуды. Обихаживая избушку, Аким нагрел воды и вымыл девушку, девочку ли на забросанном лапником полу. Облеплял ее горчичниками, натирал спиртом, делал горячие компрессы, отпаивал ягодным сиропом, суетился, бегал весь потный, задохшийся от жары, но отчетливо помнил: надо экономно расходовать лекарства, больницы и аптеки здесь нету. Лечить больную следует осторожно, жизнь в ней едва теплится, и себя надо беречь, очень беречь. Первый день в одной рубахе, сопрелый шастал на улицу, засопливел, давай скорее лечиться: пришлепал себе горчичники на спину, докуда рука доставала, таблетку проглотил — как рукой сняло, а то шибко испугался — запропадет он — все, и все здесь, в изгоне, пропадут вместе с ним. Он и Розку не забывал кормить, и сам ел, пусть на ходу, в пробег, но хоть раз в день да горячую пищу. Никогда в жизни Аким еще не берег так сам себя, не заботился о своей персоне, да, признаться, никогда в жизни он так крайне никому и нужен не был, разве что братьям, сестрам да матери. Но где, когда это было? Прошлое затмилось бродячей жизнью. Больше всего Аким боялся разжариться в тепле, расслабнуть, уснуть. В голове у него поднялся кровяной шум, в коленях сделалось мягко, поташнивало, как он думал, от табаку; он старался меньше курить, не садиться надолго, а толчись на ногах, занимать себя разнодельем.