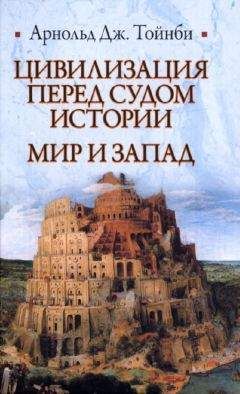Халед Хоссейни - И эхо летит по горам
— Я тоже рада, — говорю. — Как долетели?
— Я приняла таблетку, иначе, знаю, не усну. Все время буду не спать. Потому что я слишком счастлива и слишком волнуюсь.
Она удерживает меня взглядом, сияет мне, словно боится, что волшебство растает, стоит ей только отвести глаза, — пока громкоговоритель над нами не начинает советовать пассажирам докладывать о любом бесхозном багаже, и лишь тогда немного расслабляет лицо.
— Абдулла знает, что я приезжаю?
— Я ему сказала, что везу в дом гостя, — отвечаю.
Потом мы устраиваемся в машине, и я украдкой гляжу на нее. Невероятное дело. Есть что-то странно призрачное в Пари Вахдати — в том, что она сидит в моей машине, в нескольких дюймах от меня. Я то вижу ее совершенно ясно — желтый шарф вокруг шеи, короткие капризные волоски вдоль края стрижки, родинка цвета кофе под левым ухом, — то вдруг черты ее будто обертывает дымка, словно я смотрю на нее сквозь мутные очки. Накатывает головокружение.
— Все хорошо? — спрашивает она и, пристегиваясь, вглядывается в меня.
— Я все жду, что вы исчезнете.
— То есть?
— Просто это… немножко невероятно, — говорю я, нервно посмеиваясь. — Что вы есть на свете. Что вы здесь.
Она кивает, улыбается:
— А, мне тоже. Для меня тоже странно. Знаете, за всю жизнь я не встречала человека с именем, как у меня.
— Я тоже. — Поворачиваю ключ в зажигании. — Расскажите мне о своих детях.
Выезжаем с парковки, а она рассказывает мне о них, называя по именам, будто мы с ее детьми вместе росли, ходили в лес и ездили на семейные пикники, летом вместе бывали на морских курортах, где нанизывали ожерелья из ракушек и закапывали друг друга в песок.
Вот бы и впрямь.
Она рассказывает мне про своего сына — «и вашего двоюродного брата», добавляет она — Алена и его жену Ану: у них родился пятый ребенок, дочка, и они переехали в Валенсию, где купили дом.
— Finalement[16] они уехали из той мерзкой квартиры в Мадриде!
Ее первенцу, Изабель, которая пишет музыку для телевидения, впервые заказали дорожку к большому фильму. Муж Изабель Альбер — теперь шеф-повар в одном уважаемом парижском ресторане.
— У вас же был ресторан, нет? — спрашивает она. — Кажется, вы сообщали в электронном письме.
— Ну, у моих родителей был. Папа всегда мечтал владеть рестораном. Я ему помогала. Но пришлось его продать несколько лет назад. После того как умерла мама, а баба перестал… мочь.
— Ой, сочувствую.
— Да не стоит. Не заточена я под ресторанное дело.
— Надо думать. Вы же художник.
Я рассказала ей мимоходом, когда мы впервые говорили по телефону и она спросила, чем я занимаюсь, что мечтаю поступить в художественную школу.
— На самом деле я, что называется, «оператор набора данных».
Она внимательно слушает мои объяснения — я работаю в фирме, которая обрабатывает данные крупных компаний из списка «Форчен-500».
— Я составляю для них бланки. Брошюры, чеки, потребительские списки, списки электронных адресов — всякое такое. Нужно уметь только печатать. А платят прилично.
— Понятно, — говорит она. Обдумывает, затем спрашивает: — А интересная это работа?
Движемся на юг, проезжаем мимо Редвуд-Сити. Перегибаюсь над ней, тыкаю пальцем в пассажирское окно.
— Видите вон то здание? Высокое, с синей вывеской?
— Да?
— Я там родилась.
— Ah, bon?
Она продолжает поворачивать голову, следит глазами за тем зданием.
— Повезло.
— В каком смысле?
— Знаете, откуда взялись.
— Никогда об этом не задумывалась.
— Bah, ну разумеется. Но это важно — знать такое, знать свои корни. Знать, где начался как человек. А нет — вся жизнь кажется ненастоящей. Как головоломка. Vous comprenez?[17] Как будто пропустил начало истории и теперь на середине пытаешься разобраться.
Баба, вероятно, так себя теперь и чувствует. Жизнь его — сплошные дыры. Каждый день — путаная история, головоломка, через которую приходится продираться.
Пару миль едем в тишине.
— Интересная ли у меня работа? — говорю. — Однажды я пришла домой и обнаружила, что над кухонной мойкой не выключен кран. На полу битое стекло, газовая конфорка не выключена. Тогда-то я и поняла, что одного его оставлять больше нельзя. А поскольку нанять сиделку мне было не по карману, я нашла надомную работу. «Интересность» в это уравнение не вписывается.
— А художественная школа подождет.
— Ей придется.
Я с тревогой жду, что дальше она скажет, как повезло моему отцу с дочерью, но, к моему облегчению и признательности, она лишь кивает, провожает глазами дорожные знаки. Другие же — особенно афганцы — постоянно подчеркивают, как отцу повезло, какое я ему благословение. Говорят обо мне с восхищением. Делают из меня святую, дочь, которая героически отказалась от блестящей жизни в беспечности и обеспеченности ради дома и ухода за отцом. А ведь еще же и мать, — говорят они, а голоса у них прямо умасливаются от сочувствия. — Столько лет нянчилась с ней. Тогда был ужас. А теперь вот отец. Красоткой она, конечно, никогда не слыла, но ухажер у нее был. Американец, ну тот, у которого солнечные батареи. Могла за него выйти. Но нет. Из-за них. Стольким пожертвовала. Эх, всякому родителю бы такую дочь. Хвалят меня за боевой настрой. Восторгаются моим мужеством и благородством, будто я сама преодолела какое-нибудь физическое уродство или, может, адский дефект речи.
Но я себя в этих разговорах не узнаю. Например, бывает, когда я вижу, как баба утром сидит на кровати, высматривает меня слезящимися глазами, ждет нетерпеливо, когда я натяну носки на его высохшие, рябые ноги, бурчит мое имя и корчит инфантильное лицо. Морщит нос так, что становится похож на мокрого трусливого грызуна, и он мне противен с таким лицом. Мне противно от того, каким он стал. Мне противно то, как он сузил границы моего существования, что из-за него утекают мои лучшие годы. Бывают дни, когда я хочу лишь одного — освободиться от него, от его капризов и беспомощности. Никакая я не святая.
Съезжаю на Тринадцатой улице. Еще несколько миль — и я вкатываюсь к нам на Бивер-Крик-Корт, выключаю двигатель.
Пари смотрит в окно — там наш одноэтажный дом, на гаражных воротах шелушится краска, оливковые оконные рамы, пара пошлых каменных львов по обеим сторонам входной двери — не соберусь с духом их выкинуть, баба их обожает, но сомневаюсь, что заметит пропажу. Мы живем здесь с 1989 года, с моих семи лет: сначала снимали, а потом баба в 1993-м выкупил дом. Мать умерла в этом доме солнечным рождественским утром, на больничной койке, которую я поставила для нее в гостевой спальне, где она и провела три последних месяца жизни. Она попросила меня переселить ее в ту комнату из-за вида в окне. Сказала, что это улучшает ей настроение. Ноги у нее распухли и посерели, и она целыми днями смотрела из постели на тупик перед домом, на двор с японскими кленами, что она посадила много лет назад, на клумбу в виде звезды, на полосу газона, рассеченную узкой каменистой дорожкой, на склоны холмов вдали и глубокий богатый золотой, в какой они одевались к полудню, когда солнце заливало их целиком.