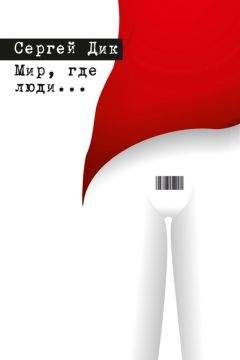Виктор Пронин - Падай, ты убит!
— Для такого полезного дела всегда найдутся, — Ошеверов с трудом оторвал от пола ступни, шагнул к Игореше и, не размахиваясь, влепил пощечину тяжелой, короткопалой, перемазанной глиной ладонью. А когда Игореша полез в карман за платком, Ошеверов, не найдя, чем заняться и как разрешить создавшуюся неловкость, влепил еще одну пощечину с другой стороны.
— Ну, а теперь... — Игореша с трудом принял вертикальное положение, — теперь я могу идти? Общество удовлетворено? Порок наказан? Инстинкты сыты?
— Мои? Нет! Мои только почувствовали вкус настоящей пищи! — заорал Ошеверов.
— Аппетит приходит во время еды? — усмехнулась Селена. — Ты бы лучше привел себя в порядок... Тут дамы.
— Дамы? Не вижу. В упор не вижу.
— Такая мелочь не для всех существенна, — Игореша тщетно пытался соскрести с себя пятна глины, оставленные не то Шаманом, не то Ошеверовым. — Он вообще может без трусов показаться.
— Могу! Мне нечего скрывать. И есть чем гордиться. Верно, Селена.
— Заткнись, дурак!
— Не сердись, Селена, а то он подумает черт знает что. Смейся, Селена.
— Посмеемся как-нибудь в другой раз, — сказал Игореша. — Уверен, что будет достаточно поводов. Не связанных с твоими трусами... Пока, ребята. До скорой встречи. Не переживайте, у нас были разговоры посильнее нынешнего. И ничего, мы опять вместе. Что делать, ребята, что делать... Ни у кого из нас нет друзей получше. Мы нужны друг дружке. Да, сегодня виноват я, вот и Васька, — Игореша с трудом нашел в проеме двери еле видный контур стукача, — который славится высокой нравственностью, подтвердил, что этой ночью именно мне выпала роль подонка... Что ж, ему виднее... Когда соберемся в следующий раз, эту роль, может быть, не менее успешно сыграет он сам. Из вас я не знаю никого, кто бы с ней не справился. Творческих вам успехов, ребята, на этих или иных подмостках. Пока.
Ошеверов, словно бы очнувшись от злого колдовства, с недоумением посмотрел на мятый конверт с доносом, на свои перекошенные трусы черного сатина, на живот в черно-красно-белых кирпичных разводах, потом его взгляд сдвинулся в сторону, задержался на Шамане, восторженно размахивающем роскошным своим хвостом. На перилах он увидел Федуловых, ожидавших новых развлечений. Иван Адуев монументально возвышался на диване и смотрел на него со всей доброжелательностью, на которую оказались способны его мелковатые для обильного лица глаза. Марсела сидела рядом, закинув ногу на ногу, и выглядела куда недоступнее, нежели это было на самом деле. Бледный от дурных предчувствий Вовушка, похоже, метался — как ему быть, как жить дальше? Анфертьев казался отрешенным, Света усталой, Шихин, запрокинул голову, прижался затылком к бревнам. На губах его возникала и пропадала еле заметная улыбка — то ли светлеющее небо и влажные деревья нравились ему, то ли увидел свисающие из космического пространства линии судеб друзей, а может, несуразный вид Ошеверова смешил...
Автор тоже пребывал в растерянности. Он полагал, что достаточно разоблачить доносчика, чтобы тот начал плакать и каяться, просить прощения, снисхождения, приводить всякие доводы в свое оправдание... А тут выясняется, что все иначе — доносчик уходит с чувством превосходства, оскорбленным и насмешливым, словно покидает компанию, явно его недостойную. Что тут сказать, какие слова найти, чтобы осталось в душе какое-нибудь удовлетворение, чтобы хоть видимость возмездия наполнила возникающий в утренних сумерках сад...
Тщета и беспомощность.
Все попрано, святыни поруганы и храмы сожжены. Только пепел на ветру, запах жженого кирпича, сырость сиротского рассвета, и не к кому обратиться, не к чему прислониться, и даже с оставшимися в живых нет сил разговаривать — все опозорены и обесчещены. Даже слова осквернены погаными, и единственное, что возможно, — молчание. Пусть пройдет время и очистятся, оживут слова, и дождь времени смоет с них стыд, и снова их можно будет произнести вслух, не опасаясь детей и доносчиков. Пусть слышат — слова снова стали чисты, и нет в них ни срамного, ни запретного смысла.
— Ты напрасно так засуетился, Илья, — произнес Игореша, стоя рядом с Селеной на ступеньках. — Мы могли бы и дальше собираться здесь иногда, чтобы скрасить хозяину унылость существования, да и себе доставить какую-никакую утеху... Это и теперь не исключено, но, боюсь, некоторое время будет затруднительно... А впрочем...
Игореша замолчал, почувствовав за спиной какое-то движение, оглянулся. Из сада по еле видимой в сером сумраке кирпичной дорожке, поблескивающей лужицами, в которых отражались свисающие из космоса линии судеб, приближалось темное пятно, вроде сгустка ночного тумана. Но через секунду-вторую все поняли, что это Кузьма Лаврентьевич. Не обращая внимания на отшатнувшегося Игорешу, он со смущенной улыбкой бесшумно поднялся по ступенькам, прошел по доскам, оставляя почти квадратные следы своими ступнями со свисающей бахромой оборванных корешков. Увидев ружье, остановился. Что-то дрогнуло в его лице, смутное беспокойство отразилось на нем. Кузьма Лаврентьевич снял ружье с гвоздя, провел ладонью по столу, стряхнул влагу. — Роса, — сказал он виновато. — Выпала роса...
Он с видимым сожалением расстался с ружьем, снова повесив его на гвоздь. Вошел в сени и растворился в темноте.
Игореша не стал продолжать. Его слова уже не имели значения. Он поднял руку, как бы посылая всем наилучшие пожелания, повернулся и начал спускаться по ступенькам. И тут Ошеверов, преодолев сковывающее его оцепенение, в каком-то невероятном прыжке настиг Игорешу, схватил его за шиворот и вбросил на террасу. Не удержавшись, Игореша упал светло-золотистым задом на свежие следы Кузьмы Лаврентьевича.
— Не понял, — с улыбкой проговорил он, упершись в пол руками.
— Сейчас поймешь. Сейчас все поймешь... Не останется никаких недоразумений, — что-то мешало Ошеверову произнести главное.
— Ну-ну, — сказал Игореша, но лучше бы ему промолчать. Это поощрительное «ну-ну», в котором явно прозвучали снисхождение и насмешка, стало последней каплей, чаша гнева в душе Ошеверова переполнилась.
— Я буду с тобой стреляться, — сказал Ошеверов мертвым голосом. — Вот из этого ружья.
— Ты обалдел, Илья, — устало произнес Игореша, поднимаясь. — Тебе нельзя столько пить.
— Я буду с тобой стреляться. Сейчас.
— Ты опоздал лет на двести, — вздохнул Игореша.
— А ты со своей подлостью в самый раз подоспел?
— Ну... Так уж и подлость... Забота о безопасности государства никогда не была излишней.
— Полчаса назад ты беспокоился о целостности Селены, а теперь тебя уж и государство заботит? Шустер! Будешь стреляться?!
— Конечно, нет. Мало ли блаженных шоферов на белом свете... И с каждым стреляться прикажешь? С прислугой не стреляются. С официантами, кучерами, дворниками...
— Могу себя предложить вместо Ильи, — негромко проговорил Шихин, не переставая улыбаться чему-то внутри себя. — Уж коли шофера тебе не подходят.
— Никаких замен! — закричал Ошеверов. — Я его уже вызвал. Он мой. Я его, родненького, никому не отдам. Я его вычислил, выследил, вынюхал. Он мой, — убежденно повторил Ошеверов. — Ружье стреляет через раз, патроны годны через один, посмотрим, на чьей стороне Бог!
— Бог на стороне дураков и блаженных, — ответил Игореша.
— Не возражаю! — опять в голос заорал Ошеверов, поняв, что делать, что говорить, как жить дальше. — Ты будешь стреляться, мать твою за ногу! Будешь! Если не хочешь, чтобы я из твоей плоской задницы сделал решето для промывки овощей!
— Никогда, Илюша. Я слишком люблю тебя, чтобы поднять руку...
— Так я тебя не люблю! Я терпеть тебя не могу!
— А я люблю, — Игореша улыбнулся.
Ошеверов подбежал к нему, захватил на груди все одежки, которые мог захватить своими коротковатыми сильными пальцами, и принялся так трясти, что голова Игореши болталась взад-вперед, как на надломленной шее.
— Ну? Будешь стреляться, доносчик вонючий? Зачем ты сюда приехал! Знаем! Кто чего сказал, кто о чем подумал, кто слово какое обронил... И сам ты сволочь, и баба твоя поганая, драть ее некому!
— Не трожь Селену! — взвился Игореша.
— А почему? — удивился Ошеверов. — Чем она лучше тебя? Хотя нет, лучше! Ты вот брезгуешь шоферами, а она — нет.
— Селена! — закричал Игореша. — Ты слышишь, что он говорит?!
— Стреляться будешь?!
— Селена, что он говорит?!
— А ты больше его слушай!
— Ружье возьмешь?
— Селена, почему ты ничего ему не отвечаешь?!
— Хочешь, чтобы я с ним стрелялась?
— Пятьдесят шагов! — орал Ошеверов, сорвав со стены ружье и потрясая им в воздухе. — В тумане я могу промахнуться, не дрейфь, Игореша! Да и порох отсырел! И боек неважный! Ну?! Пятьдесят шагов! Селена сказала, что ты уже три года как не мужик, так стань мужчиной на рассвете! Хоть на десять минут! За десять минут я управлюсь!