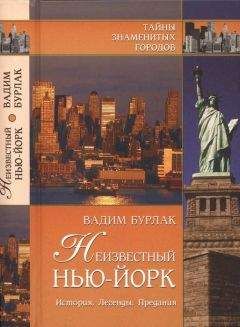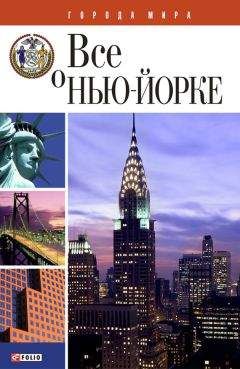Алексей Шельвах - Приключения англичанина
И вот она выскочила из автобуса, вбежала, бледная и растрепанная, в проходную завода «Вулкан» и тут же схватилась за сердце, обнаружив, что вбежала-то с пустыми руками, что сумочка-то с кошельком, паспортом и пропуском на завод осталась там, в извечной автобусной давке.
Еще хорошо, что вахтер попался невредный, позвонил в цех, где работала Антонина, и пока не явился за ней мастер, отпаивал ее горячим кипятком из мятого алюминиевого чайника с ручкой, обмотанной белым электрическим проводом.
И начальник цеха тоже оказался человеком – нет, он, разумеется, вызвал Антонину к себе в кабинет, пристыдил под портретом вождя, но, в целом, отнесся к ее проступку снисходительно, даже на прощание поинтересовался, как здоровье сынишки.
Можно представить, что пережила она за те несколько дней, в течение которых носилась по инстанциям и собирала нужные справки для оформления нового паспорта, какие мысли кружились в ее немудрящей голове, с каким подавленным настроением выгребала из-под станков казавшуюся ей раньше такой красивой стружку – сиреневую, золотистую, переливающуюся всеми цветами побежалости!
А потом, дома, с какими мыслями готовила пищу для сына и себя, вздрагивая при каждом неурочном звуке, доносившемся с лестничной площадки!..
Так рыбы, обладающие, как пишут в научно-популярных журналах, необыкновенным слухом, слышат шаги рыбака, приближающегося к пруду.
Но – обошлось, рыбаки не пришли, и Антонина получила новый паспорт. Правда, стала она теперь Атомногрибовой, и вот как это случилось.
Прогрессивное человечество тогда еще не оправилось от шока, вызванного атомной бомбардировкой японских городов. Советские газеты и радио без конца напоминали об этом ужасном оружии.
И, вероятно, паспортистка, занимавшаяся документами Антонины, чересчур близко к сердцу принимала эту информацию, то есть мысли об атомной бомбе просто-таки не выходили у нее из головы, а тут имя Антонина и фамилия Грибова – в общем, что-то у нее в мозгах замкнуло[42], в результате безропотная уборщица с завода «Вулкан» получила апокалипсическую фамилию, ну, и, соответственно, ее сын Антон тоже.
Итак, родился в одна тысяча девятьсот сорок первом году, в Ленинграде. Отец, как уже было сказано, погиб на фронте, а мать перенесла блокаду и сделала все возможное для выживания сына.
Из бледной блокадной поганки развился Антон в неожиданно огромного румяного отрока.
Учился он хорошо, но с восьмого класса пришлось пойти работать на завод, мать часто болела, и денег на жизнь не хватало. Поступил учеником токаря и сразу выказал способности и примерное прилежание.
Его ровесники были в большинстве низкорослы, рахитичны, за стенками их черепных коробок теплились только искры злобы на полуголодный послевоенный белый свет. Они тоже работали на заводе, а вечерами собирались в скверике, где учились драться, курить, выпивать и метать ножи в стволы деревьев. Антон пророчил им скверное будущее и заступался за прохожих, на которых эта пока еще мелкая шпана уже пробовала поднимать руку. Чтобы не лез не в свое дело, они однажды всей кучей жестоко его отметелили, и тогда он записался в секцию самбо и к своим незаурядным физическим данным присовокупил умение давать отпор большому числу нападающих одновременно. Его зауважали и оставили в покое.
Не достигнув совершеннолетия, почти все эти уроды канули в темных водоворотах жизни без права поселения в крупных городах, тогда как положительный Антон отслужил три года в армии, вернулся на прежнее производство, повысил разряд и стал ударником социалистического труда.
В возрасте двадцати четырех лет понесла его нелегкая на танцы, куда вообще-то он был не ходок, поскольку мечтал о настоящей большой любви.
Под рев репродуктора по случаю праздника Первое мая он пригласил на вальс будущую свою супругу, а потом проводил ее до общежития, в котором она проживала, имея временную прописку.
Он стал покупать ей цветы, ходил с ней в кинотеатры, на концерты артистов болгарской, чешской и польской эстрады.
Ее звали Тамарка, она приехала в Ленинград из Чимкента, закончила здесь финансово-экономический техникум и работала бухгалтером в строительном тресте, откуда, впрочем, давно мечтала уволиться.
Она была тощая, скуластая, с раскосыми глазами и смуглыми щеками, отличалась решительными суждениями (всегда неверными) и больше всего на свете любила смотреть телевизор, лежа на тахте и лузгая семечки.
Телевизор она начала смотреть, еще когда училась в школе на малой своей родине. В Ленинграде к этому увлечению прибавилось прослушивание грампластинок (подруги в общежитии давали пользоваться проигрывателем): первые советские ВИА, опять-таки болгарская, чешская, польская эстрада.
С теми же подругами ходила на танцы в Дом офицеров, в Мраморный зал на Васильевском острове.
И вот они с Антоном расписались, и у нее появилась собственная крыша над головой. Работать в бухгалтерии стало необязательно, и когда родилась дочь, Тамарка с облегчением уволилась. Стала нянчиться с дочерью и валяла таким образом дурака довольно долго, благо телевизор всегда был в поле зрения. Ради справедливости следует сказать, что в быту была она неприхотлива, тряпки, хоть и покупала в большом количестве, всегда выбирала подешевле. Да и сидеть на шее у мужа в конце концов стало стыдно. Устроилась на почту разносить телеграммы – вся работа заключалась в том, чтобы по телефону прочитать адресату текст (поздравляем с тем-то, приезжаем тогда-то), сходить в кино, а на обратном пути закинуть телеграммки в почтовые ящики.
В связи с рождением дочери пришлось Антону токарить уже не в охотку, как прежде, а с темноты до черноты, в поте лица и тела, хвататься за любую сверхурочную работу. Старые рабочие, Голубев и Змиев, загадочно усмехаясь в усы, говорили ему: «Трудись, Антоха, трудись. Тебе надо».
В науке страсти нежной она была искушена немногим более Антона, хотя до встречи с ним успела залететь от секретаря комсомольской организации треста. Вероятно, эта несчастливая первая любовь (аборт, трусливое поведение юного идеолога) и сделала ее фатально фригидной – в постели она лежала, как неведомое холоднокровное существо, и здоровенный Антон из сил выбивался, прежде чем она начинала наконец слабо шевелиться. Впрочем, занимаясь сексом, она вообще становилась на себя не похожей: конфузилась, стискивала жемчужные, тщательно вычищенные зубки, чтобы не дай бог не вскрикнуть, а когда Антон, извергаясь, непроизвольно рычал, она зажимала ему рукой рот: «Тише! Тише!», боялась, что услышат соседи – все никак не могла привыкнуть, что живет в старинном, еще дореволюционной постройки, доме с толстыми каменными стенами, а не в общежитской норе с фанерными перегородками. Забавно, что при гостях она не стеснялась шпынять его за малейшую провинность (пролил чай на скатерть, купил плохой картошки: снаружи вроде ничего, а внутри вся гнилая), а то и орать во все горло: «Идиот! Дубина!» – она не очень хорошо чувствовала русский язык и не всегда понимала, какое и в каком случае слово следует употребить.
Задыхаясь от отвратительных, на его вкус, запахов косметики, лежал Антон рядом с ней после соития и недоумевал: неужели эта женщина с непроницаемым монгольским лицом и есть его суженая?
Со временем Тамарка стала сварлива, стала требовать, чтобы он зарабатывал еще больше, а когда случалось ему приболеть, закатывала скандалы: «Чего это ты разлегся?» – присутствие мужа в доме в непривычное для нее время настолько раздражало ее, что однажды она даже набросилась на него с кулаками.
Изумленный Антон машинально отмахнулся, и она вылетела в окно (открытое по причине летнего времени), а ветер подхватил ее, перенес через улицу и опустил куда-то в кроны Чертова скверика. Пришлось потом забираться на дерево, снимать супругу, – сбежались обитательницы скверика, старушки-пенсионерки, глазели, галдели. Антон готов был со стыда сквозь землю провалиться.
Постепенно он начал понимать, почему усмехались старые заводчане. Все у него получалось, как у них когда-то. И обещало быть, как у них сейчас.
На праздники, а то и просто так приходили Тамаркины подруги, те самые, вместе с которыми она когда-то училась в техникуме, жила в общаге. У нее за спиной (она даже за накрытым столом сидела вполоборота к телевизору) то одна, то другая норовила прижаться к Антону бедром, а то и расстегнуть брючный ремень. Он, однако, решительно пресекал любые попытки физического с ним сближения – врожденная порядочность не позволяла. Для того, что ли, женился? Он, впрочем, не знал, для чего.