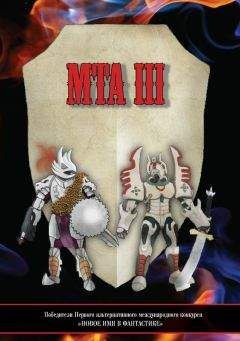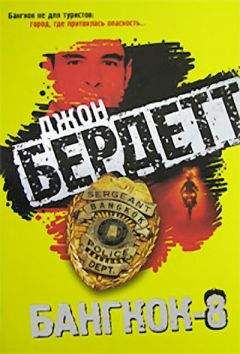Татьяна Мудрая - Геи и гейши
— Ты начал понимать, — усмехнулся Лик Будды, — но тебе еще предстоит углублять свое понимание. Ведь здесь — да и там, за порогом — обитель не покоя, но вечного постижения.
Говоря это, он почти незаметно направлял взор странника на завесу, что снова сомкнулась, приняв форму вытянутого овала; тому почудилось, будто некая величественная и стройная фигура в алом плаще, ниспадающем перед нею на внутренние ступени, возвышалась там, взявшись распростертыми крестообразно руками за плавные обводы дверей. Лицо ее, постоянно меняющееся и оттого еще более прекрасное, казалось страннику знакомым.
— Есть в быстротекущей жизни, всецело сотканной из наших о ней помышлений, некий опыт, подобный капле елея в запечатанном хрустальном сосуде: от него, когда разбивается сосуд, проистечет ее аромат. И без этой малой капли Рай не сможет стать Раем, добро-добром, истина — истиной, ибо весь Рай соткан из наших звездных мигов, и каждый такой миг обладает свойством вмещать все прочие подобно тому, как любой человек обладает ценой всего человечества, — заговорил первый Страж, а был он тем, кто стоит у Двери лишь ради того, чтобы совпасть со входящим, наложив на него печать совершенства, и кто сам есть Дверь Отверстая.
— Ты прав; тогда я уйду за своим миром. Но как я сумею возвратиться в ту свою благовонную каплю, в миг ее сверкающей истины? — спросил странник. — Снова и снова обречен я блуждать по свету, потому что растерял детскость души и изменил этим свое прошлое.
И тут пронесся над ними еще один голос, нежный и властный, что исходил прямо из сердца рая:
— О Великие Совершенные! В философствовании вашем забыли вы об одном: когда звезды, зажженные людьми, в Раю слились воедино, они стали чистейшей земной Любовью, которая отразила свет небесной Любви, как луна принимает в себя свет Солнца, и нет нигде ни истины, ни добра выше этих двойников! И если радость очищена тут от страдания, а страсть — от дыхания зла, то к чему предписывать моему возлюбленному томление? Зачем препятствовать ему войти?
Странник поднял глаза: фигура в алом плаще прояснилась. Теперь то была Дева с лебедиными крыльями, окрашенными во все цвета утренней зари, и пламя вокруг ее головы слилось с оперением, а вокруг бушевал смерч из цветов и листьев, семян и дождевых облаков. Лицо ее было лицом его невесты ровно в той мере, в какой лицо Первого Стража было его собственным.
— Ты не та моя любимая, — промолвил он.
— О простец! К тому бесконечно отдаленному и бесконечно сладостному мигу вечности, когда ты дойдешь до меня, — я стану ею, — ответила Дева, и смех ее был как живительное пламя.
Под потолком модного кафешника «Бродячая Собака» повисла не совсем ловкая и неудобь сказуемая тишина. Хозяйка с грохотом передвигала тяжелые стулья из мореного дуба, вытирала полированную мебель, демонстративно шлепая по столешницам мокрой тряпкой.
— Н-да, — сказал Леонард, — вот стараешься в который раз пристойно завершить апокалипсис в духе всепрощения и всеобщего возрождения, а оно все вывертывается да изворачивается, как тот змей. Уж какую сцену отыскали, какую команду подобрали, как игру выстроили, а, Идрис? Загляденье просто! И снова попусту.
— В следующий раз тебя в замусоленном камуфляже сюда не пустят, — ответил слепец распевно, — и собачонку в кармане или за рукавом пронести не выйдет, так я думаю. Разве что йорки. И вина не подадут.
— Да уж, не пить мне от грозди виноградной, доколе Царство Божье не придет, — сморщил нос Леонард. — И булочек калорийных не есть. Как думаешь, Белинда?
Собака горизонтально вильнула хвостом и осклабилась.
— Не огорчайся так уже, — примирительно сказал Идрис и потрепал Белую Собаку по шее. — Мусульмане ведь как-то одним кофе обходятся, и ты сможешь. А отыграли они неплохо и лишь самую малость не вошли в нужный образ. В следующий раз поищем в Кащенке или Достоевке полного идиота, чтобы не двигался и не говорил. Верно, Ара?
На кухне тем временем поспевал первый утренний заряд кофе — того царственного напитка во всей славе его, который хочется даже не пить, а весь до донца вынюхать. К почти осязаемому валу его аромата разноцветными нитями приплетались сопутствующие запахи: жареного миндаля, арахиса и фундуков, тугого вяленого урюка, прозрачных цукатов и лукума, припорошенного тонкой сахарной пудрой, зубодерной нуги и тяжелой, как бедра красавиц, загорелой пахлавы.
— Госпожа метрдотель, — повторил Леонард, — вас, по-моему, спрашивают.
Она выпрямилась и воткнула в боки оба кулака: в левом скомканная в шар тряпица, в правом — короткая швабра-окномойка.
— Шуты гороховые, — сказала она прочувствованно и даже как бы со слезой, — олухи Царя Небесного, иже в высех. Вам будто неведомо, что конца не будет или, говоря иными словами, он уже обозначен раз и навсегда — как та гавань на океанской карте, куда должны причалить все корабли? Сколько людей, столько и кораблей, сколько суден, столько и судов. У жизни, как у большой воды, нет ни начала, ни конца — только берега; в нее можно вступить, из нее можно уйти, но сама она остается и ждет всех жаждущих. Только одно нам троим утешение: стараемся все-таки не вхолостую. Когда не грузим, так хоть кренгуем, чтобы легко было дальше плыть без ракушек на днище.
Послесловие Белой собаки
Роберт Грейвс учил, что главная Тема древних гаэльских поэтов должна быть изложена в тринадцати частях с эпилогом: здесь, у себя, мы уже имеем аж пятнадцать. Однако поскольку пролог вполне можно зачесть в качестве эпилога, а Предуведомление Автора в любом своем качестве выходит за пределы допустимого, получается абсолютное соответствие старинным образцам — такое полное, что его не грех и чуточку подпортить. Как говаривал обо мне наш добрый царь Николай Васильевич, слог мой неровен до чрезвычайности: начну так, как следует в хорошем обществе, а кончу прямой и откровенной собачиною. Вот по этому случаю мы и повольничаем, а именно — попросту вынесем за скобки вроде бы достаточно пристойного романа послесловие, как уже проделали с предисловием, и на том упокоимся.
Итак, в нашей обширной и развернутой любовной притче остался практически незамеченным один важный аспект.
Агапэ спокойно вырастает из семьи, дружбы двух интеллектов, нежности к другому или другим (я имею в виду деток), из секса… Но никогда — из преображенного эроса! Ведь истинный эрос — метафора пути к божеству, вопроса и ответа, смерти и возрождения. Это почти молитва или равно ей. (И вообще конец света: ведь хотя женщина и есть живое воплощение финализма, для того, чтобы кончить, ей нужен мужчина.)
Мы уже упоминали, что в этом плане эрос есть конкурент Церкви, которого она пытается обезвредить — по большей части не из корыстных целей (и слава Богу), а видя в нем необузданную и мало понятную природную силу. Животный Инстинкт, который они противопоставляют человеческому Разуму вместо того, чтобы поставить с ряд с великой дологической Интуицией.
Но есть и еще одно явление того же порядка, своеобразный близнец Эроса как амбивалентной смерти-рождения: Театр, точнее — Трагедия.
Какую цель преследовали Великие Дионисии и Элевзин? Дать человеку пережить катарсис, то есть вместе со жрецом и актером пожертвовать собой и умереть во имя возвышенной цели, чтобы иметь возможность жить дальше в энтропийном, разрушающем личность мире. Платон не зря ополчился на поэтов в своей «Республике»: он чаял, что в идеальном государстве сама жизнь будет поэтическим творением и трагедией — не в плане катастрофического конца, как мы понимаем ныне это слово, но в смысле полноты, истинности и достойного завершения.
Смерть — танец, смерть — театр и смерть — всегда очищение: эти знаки накладываются на нее в сей бренной жизни, но взяты они человеком из той сферы, где ее преодолевают.
Театр подозрителен церкви не бесстыдством, не культом артистического разврата — это преходяще; не тем, что это псевдожизнь, которой можно заиграться, — это лишь одна из ряда житейских опасностей, хотя не такая уж повседневная; но тем, что, умерщвляя и тут же воскрешая, он конкурирует со святым крещением.
Истинный смысл нашей жизни — то, что сценарий ее уже предопределен, но в его исполнении и адекватности замыслу великого автора должна быть проявлена наша свобода воли. Каждый из нас по мере сил, возможностей и понимания исполняет свою личную трагедию дель арте внутри всеобщей.
Чью же роль исполняет каждый и всякий человек?
Ну, вы спросили!
Роль Совершенного Человека.
И ведь сам Иегошуа Га-Ноцри был наилучшим актером своего миракля. Недаром вся его видимая жизнь как бы сама собой сложилась из таких весомых сакральных символов, что господин Юнг счел ее вымышленной с начала до конца… Но нам нравится воображать, что произошло противоположное: идеальное следование сценарию, тому Божественному замыслу, который своими отдельными знаками (рождение сильного и слабого двойников, смерть в окружении Двенадцати, жертвоприношение Авраамово) пытается проявиться на протяжении всей библейской и коранической истории человечества.