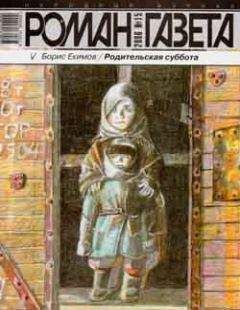Борис Екимов - На хуторе
Скуридин стоял тощий, сутулился, горбатый нос торчал из-под фуражки, тоскливо смотрели глаза.
– Чего надо? – поднялся Костя. – Чего пришел? Нынче ты отдыхаешь.
– Там же скотина. Как тебе не жалко?
– Скотина, – подтвердил Костя. – Скотина там. А мне людей жальче. Тебя, дурака, например.
Он шагнул к Скуридину, и тот по глазам, по оскалу зубов понял: сейчас ударит. Николай хотел защитить больное, резаное, еще живое. Но не успел.
Костя коротко махнул рукой. И не ударил. А Николая уже жиганула боль, он упал, скорчился, минуту-другую приходил в себя. Потом боль ушла, но дышать было трудно, и осталась в голове какая-то дурь. Зеленое, красное плыло перед глазами пятнами.
Костя поднял Скуридина за шиворот, держал его, считай, на весу, в большой лапе. Отпустил лишь тогда, когда понял: будет стоять.
– Не тронул, а ты уж валишься, – сказал он. – А если трону?.. Чего будет? А? Гляди. Заруби на носу. Чтобы я от тебя слова не слыхал. Я тебя не учу жить, и меня не трожь. Второй раз повторять не буду.
Все было понятно. Николай отдыхивался и не мог взять в толк, трогал его Костя или нет. Вроде не тронул. Он пошел было, но Костя позвал его…
– Погоди…
Николай остановился и через минуту не верил слуху своему и глазам. Костя обнимал его, помогал идти и говорил дружески:
– Тебе лечиться надо, на курорт. А ты изводишь себя. Надо по-человечески: как нравится, так и живи. А другого не трожь, у него, может, свой ум, чужого не просит.
Они прошли по тропке через старый сад, огород, а во дворе Мартиновна удивленно глаза таращила: зятек ее был весел, доволен.
– Зарыбалился, понимаешь, мать. Спасибо, Николай подошел. Время летит. А рыбу – Николаю. Детишки поедят. У нас много.
Он сложил улов в целлофановый пакет, вручил Скуридину. Вместе они и вышли со двора.
– Не люблю я, когда у меня над ухом зудят. Ты меня понял, надеюсь, Коля. Повторять не буду, – сказал за воротами Костя и, забравшись в седло, поехал к скотьим базам.
А Николай у кумы своей Лельки во дворе отыскал старый табак-самосад, растер лист-другой и закурил. Сначала поплыло перед глазами и кашель просек, болючий, отдающий где-то в животе, в резаном. Он долго не курил. Сначала помирал, очухался – не до того было. И врачи запрещали, сказали: помрешь. Но кашель прошел, и стало легче. Яснее думалось, трезвее все понималось. Хотя чего понимать? Все ясно. И теперь, через час почти, ныло в боку и груди, гудело в голове. А ведь и впрямь, наверное, не тронул. Просто испугал. А если тронет? Сила-то бугаиная, и кое-чему научился в тюрьме. Если тронет – конец. И дети останутся сиротами.
Николай покурил и отправился прямиком к управляющему. Он решил не жаловаться, но про скотину как умолчать? Рано ли, поздно – всплывет. И в чем бычки виноваты? Жаловаться не жаловаться, но надо сказать. И попросить себе другого напарника или самому в другой гурт уйти.
Чапурин находился возле конторы. Сломалась машина, конюх подседлал коня. Чапурин верхом ездил редко, лишь когда хозяйских коров пасли в очередь, раза два или три за лето. В седле он держался не больно ловко, мешали длинные ноги, и тяжеловат был, больше центнера весом. Он уже в седло взгромоздился, слезать не хотел и потому Николая слушал сверху, похмыкивая.
– Ладно, – сказал Чапурин. – Это ты правильно. Надо враз, а то избалуется. Никаких замен, будете пасти. Я его ныне соструню.
Чапурин уже слыхал про челядинского зятя пастьбу, жена говорила.
– Сегодня я с ним погутарю, – пообещал он, трогая коня.
Конь пошел в намет, екая селезенкой. Управляющий такие дела в долгий ящик откладывать не любил и вечером пошел к Челядиным. Во двор он не стал заходить, с улицы крикнул:
– Мартиновна! Зять дома?
– Дома. Пас ныне, отдыхает.
– Покличь.
Возле забора лежала вязовая колода, ошкуренная и обтерханная до блеска за много лет. Чапурин сел на нее. Вышел из двора Константин, потягиваясь и позевывая. За это время на хуторе он заметно поправился, лицо потемнело от солнца, железные зубы ярче светили при улыбке.
– Здорово живешь, казак, – поприветствовал Чапурин, протягивая руку.
И как в первый раз, на гульбе, они померялись силой в рукопожатье. Костя был моложе, сильней. Управляющий хмыкнул:
– Хорошо масло жмешь. А вот скотину пасешь плохо. Поздно выгоняешь, обедаешь долго, рано пригоняешь. – Он поглядел на солнышко, которое садилось. – Свойская только идет с попаса. А твоя когда на базу?
– Виноват, исправлюсь… – с улыбкой сказал Костя.
– Это другое дело, – помягчел управляющий. – Ты мужик в силах, напарник у тебя хороший. Вы можете. И каких бычков вам дали, геренфордов. На дрожжах будут расти, только паси. И заработки пойдут. Деньги-то нужны?
– Нужны, – ответил Костя. – У тебя деньги есть, ты дом построил вон какой.
Дом управляющего, просторный, шелеванный, крашеный, под шиферной крышей, виден был как на ладони. Чапурин строил его долго, но по-настоящему. До смерти на хуторе жить, а там – наследникам. Словом, навек.
– Хороший дом, – улыбнулся Чапурин. – Не хвалясь скажу. И ты займись строительством. Зарабатывай, расширяйся.
– Не стоит, – ответил Костя. – Такая жара стоит. Строишь-строишь, мучаешься, деньги изведешь. А какой-нибудь дурак спичку бросит, – понизил он голос. – Одна спичка, и нет дома.
Чапурин вскинулся, хотел было рот открыть и замер. В глазах челядинского зятя горел недобрый огонек. «Подожжет», – сразу же поверил Чапурин. И взгляд его метнулся к дому. Садилось солнце в алом пожаре. В стеклах чапуринского дома играл закатный отсвет. На мгновение перехватило дух, потом отпустило. Но холодок в груди не проходил, и ощутимо кольнуло сердце.
– Ты вот ко мне пристаешь, – спокойно сказал Костя. – А другие как пасут? Один запил – не пришел, другой с похмелья. А я не запью. Гарантия. Так что давай жить мирно.
Разговор кончился. Чапурин пошел домой.
Не хотелось о худом думать, а думалось. Сколько денег перевел на этот дом, сколько трудов, нервов… Другого уж не вытянуть, нет. А этому дураку чего стоит… Кинул спичку – и всё. Будет потом сочувствовать, зубы свои железные скалить. Докажи, что это он. Да и посадят его – разве легче? Дома не вернешь.
Опять кольнуло сердце. Чапурин остановился, прислушался к нему. И против воли, но стало думаться о том, что челядинский зять действительно не из худших. Пьет в меру, работать пошел сразу. Есть и почище ахари, зятьки. А с Николаем Скуридиным кому тягаться? Пусть сам ищет себе напарника. А то – управ да управ… Привыкли, как детишки, за управом, а разве он не человек? Разве он лишь бригадир? Ведь тоже покою хочется, и сердце одно. Хочется до пенсии дотянуть, пожить на покое, садом заняться, рыбалкой. Попробуй тут доживи.
Возле дома, с другой стороны, у ворот сидел на лавочке Николай Скуридин. Вот уж кого не хотелось сейчас Чапурину видеть.
– Сидишь? – спросил он его со вздохом.
– Да вот тебя жду. Думаю, може, ты поговорил.
– Я поговорил, я давно поговорил, – раздражаясь, ответил Чапурин. – У меня только и дел с одним да с другим гутарить. В обедах я говорил, – соврал он. – Потом в правление звонил, советовался. Там прямиком сказали: воспитывайте своими силами. Прикрепляйте наставника и учите. А прогонять никто не разрешит. Так что давай уж как-нибудь. Он – парень неплохой, не алкаш. Разболтался. Обвыкнется. Мне председатель не звонил?! – крикнул он через забор жене. – А главный агроном?! Звонил?! Я тоже его ищу, – уже Скуридину объяснил управляющий. – Заходит уборка, а он…
Николай все понял, поднялся и пошел домой.
На выгоне было шумно. Перейдя плотину, рогатое козье племя на хутор вышло наметом. Потерянно блеяли козлята, орали козы, ребятишки и бабы с криком отбивали свою животину в шайки, искали потерянных, хворостиной гнали норовистых над выгоном, словно ворвалась на хутор не козья, мамайская орда.
Младшие Николаевы дочки, увидев отца, крикнули:
– Папка, корову перевстрень. Козленка одного нет и комолой, будем искать.
– Встрену, – ответил Николай и остался на выгоне.
Коровы приходили позднее, в сумерках. Скуридинская Марта, молокастая, до корма охочая, обычно правилась не впрямую домой, а к амбарам, где меж брошенной, ржавеющей техники росла трава. Николай туда и пошел. Там сел на сиденье старой косилки и ждал.
Козы прошли, хутор сразу притих. Солнце ушло за Вихляевскую гору. Вспыхнули, загорелись алым и розовым высокие перистые облака. «Пёрушки на небе горят – к дождю», – вспомнил Николай покойную бабу Фешу, невольно глянув на кладбище. Давно она там.
Горело небо желтизной, обещая долгую зарю. На хутор от займища потянулись сумерки. А вместе с ними – коровы в теплом облаке мягкой дорожной пыли и терпкого скотьего духа.
Николай увидел свою Марту. Она поглядела на хозяина и опустила голову к траве.
Николай остался сидеть: успеется, долгий вечер. Думалось все о том же: о скотине, о затюремщике, о Челядине – словом, о нынешнем и предстоящем. Нынешний день прошел, завтрашний лежал на ладони: подняться рано утром и пасти допоздна. А вот потом…