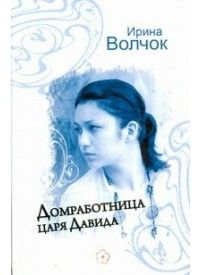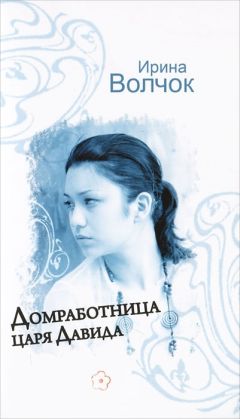Маркус Зузак - Книжный вор
Папа вытер с горла струйку воды.
— Вот и надо было?
— Надо, надо. — Роза полезла вверх по лестнице. — Не выйдешь через пять минут — получишь еще одно ведро.
Оставшись с Папой в подвале, Лизель принялась подтирать лужу холстиной.
Папа заговорил. Мокрой рукой он удержал девочку. Взял ее за локоть.
— Лизель? — Его лицо приникло к ней. — Как ты думаешь, он жив?
Лизель села.
Скрестила ноги.
Мокрая холстина подтекала ей на колено.
— Надеюсь, Пап.
Это казалось такой глупостью, таким очевидным ответом — но вариантов, похоже, было немного.
Чтобы сказать хоть что-нибудь осмысленное и отвлечь себя и Папу от дум о Максе, Лизель заставила себя присесть и сунула палец в лужицу на полу.
— Guten morgen, Папа.
В ответ Ганс ей подмигнул.
Но не как обычно. Тяжелее, неуклюже. После-Максово, похмельно. Потом он сел и рассказал ей про аккордеон прошлым вечером и про фрау Хольцапфель.
* * * КУХНЯ: ЧАС ДНЯ * * * Два часа до прощанья: — Не уезжай, Папа. Пожалуйста. — Ее рука, сжимающая ложку, дрожит. — Сначала Макс ушел. Если и ты уедешь, я не вынесу. — В ответ похмельный мужчина вкапывает локоть в стол и прикрывает правый глаз. — Ты теперь наполовину женщина, Лизель. — Ему хочется расплакаться, но он борется. Он пройдет через это. — Заботься о Маме, ладно? — Девочка смогла лишь чуть заметно кивнуть, соглашаясь. — Да, Папа.Он покинул Химмель-штрассе, прихватив свое похмелье и костюм.
Алекс Штайнер уезжал только через четыре дня. Он зашел к Хуберманам за час до того, как они отправились на вокзал, и пожелал Гансу всего хорошего. Пришла и семья Штайнеров. Все пожали Гансу руку. Барбара обняла его и поцеловала в обе щеки.
— Возвращайся живым.
— Ладно, Барбара. — И сказал он это с полной уверенностью. — Конечно, вернусь. — И даже умудрился посмеяться. — Это ж просто война, так? Одну я уже пережил.
Когда они шли по Химмель-штрассе, жилистая старуха из соседнего дома вышла на улицу и встала на тротуаре.
— До свиданья, фрау Хольцапфель. Извините за вчерашний вечер.
— До свиданья, Ганс, пьяный ты свинух. — Но предложила Гансу и нотку дружбы. — Возвращайся скорее.
— Хорошо, фрау Хольцапфель. Спасибо.
Тут она даже ему подыграла.
— Ты знаешь, куда можешь сунуть свои спасибо.
На углу фрау Диллер настороженно смотрела из витрины своей лавки, и Лизель взяла Папу за руку. Она не выпускала его руку всю Мюнхен-штрассе до самого вокзала. Поезд уже стоял у перрона.
Они остановились на платформе.
Роза обняла его первой.
Без слов.
Ее голова плотно вжалась в грудь Ганса, потом отстранилась.
Теперь девочка.
— Папа?
Молчание.
Не уезжай, Папа. Только не уезжай. Пусть за тобой придут, если ты останешься. Только не уезжай, пожалуйста, не уезжай.
— Папа?
* * * ВОКЗАЛ, ТРИ ЧАСА ДНЯ * * * Ни часов, ни минут до расставания: Папа обнимает Лизель. Чтобы сказать что-то, сказать хоть что-нибудь, он говорит через ее плечо: — Сможешь приглядеть за моим аккордеоном, Лизель? Я решил его не брать. — Но вот он вспоминает, что вправду важно. — И если еще будут налеты, продолжай читать в убежище. Девочка чувствует неотвязный признак своей немного увеличившейся груди. Ей больно касаться грудью нижних ребер Ганса. — Хорошо, Папа. — Она смотрит на ткань его пиджака в миллиметре от своего глаза. И говорит в пиджак. — Ты нам сыграешь, когда вернешься домой?После этого Ганс Хуберман улыбнулся своей дочери, а поезд приготовился к отправлению. Ганс протянул руку и нежно взял в нее лицо девочки.
— Обещаю тебе, — сказал он и взобрался в вагон.
Тот пополз, а они смотрели друг на друга.
Лизель с Розой махали.
Ганс Хуберман становился все меньше и меньше, и в руке его не было теперь ничего, кроме воздуха.
На платформе люди вокруг постепенно исчезали, пока никого не осталось. Только женщина-комод и тринадцатилетняя девочка.
Следующие несколько недель, пока Ганс Хуберман и Алекс Штайнер были в своих разных ускоренных тренировочных лагерях, Химмель-штрассе словно чем-то набухала. Руди стал другим — он не разговаривал. Мама стала другой — она не бранилась. С Лизель тоже что-то творилось. У нее не возникало желания украсть книгу, как бы она ни убеждала себя, что это ее взбодрит.
После двенадцати дней отсутствия Алекса Штайнера Руди решил, что с него хватит. Он вбежал в калитку и постучал в дверь Лизель.
— Kommst?
— Ja.
Ей было все равно, куда он идет и что задумал, но без нее он никуда не пойдет. Они прошли по Химмель-штрассе, по Мюнхен-штрассе и вышли из Молькинга совсем. Только примерно через час Лизель задала насущный вопрос. До той минуты она только поглядывала на решительное лицо Руди, на прижатые к бокам локти и кулаки в карманах.
— Куда мы идем?
— А разве не ясно?
Лизель старалась не отстать.
— Ну, по правде — не совсем.
— Я собираюсь его разыскать.
— Твоего папу?
— Да. — Руди немного подумал. — Нет. Наверное, я лучше разыщу фюрера.
Шаги ускорились.
— Зачем?
Руди остановился.
— Затем, что я хочу его убить. — Он даже развернулся на месте, к остальному миру. — Слышали, вы, гады? — заорал он. — Я хочу убить фюрера!
Они двинулись дальше и шли так еще пару километров. И вот тогда только Лизель нестерпимо захотелось повернуть назад.
— Руди, скоро стемнеет.
Он продолжал шагать.
— И что?
— Я возвращаюсь.
Руди остановился и посмотрел на нее так, будто она его предала.
— Правильно, книжная воришка. Брось меня. Могу спорить, если бы в конце дороги была какая-нибудь вшивая книжка, ты бы не остановилась. А?
Какое-то время оба молчали, но вскоре у Лизель хватило воли.
— Думаешь, ты один, свинух? — Она отвернулась. — И у тебя только папу забрали…
— Что это значит?
Лизель быстро подсчитала.
Мама. Брат. Макс Ванденбург. Ганс Хуберман. Всех больше нет. И у нее никогда не было настоящего отца.
— Это значит, — сказала она, — что я иду домой.
Минут пятнадцать она шагала одна, и даже когда рядом возник Руди, слегка запыхавшийся, с потными щеками, еще больше часа никто не сказал ни слова. Они просто вместе шли домой: ноющие стопы, усталые сердца.
В «Песне во тьме» была такая глава — «Усталые сердца». Романтичная девушка дала клятву верности молодому человеку, но тот, оказалось, удрал с ее лучшей подругой. Лизель точно помнила, что это была глава тринадцать.