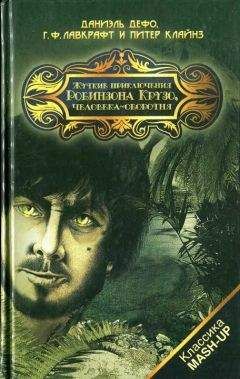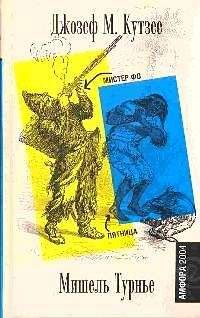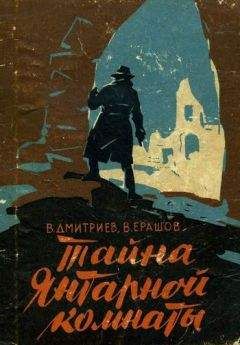Роман Канушкин - Дети Робинзона Крузо
Но Лже-Дмитрия больше не было. Об этом свидетельствовали не только беспощадная боль и черный ужас, завладевший каждой клеточкой его существа. Не только. Потому что... где-то очень глубоко...
Собрав оставшиеся у него силы Дмитрий Олегович Бобков постарался обернуться. Кошмарная рваная рана на ноге тут же послала в мозг огненные импульсы, будто заливая все расплавленным свинцом, но... Дмитрий Олегович, бывший антиквар и директор, хотел в этот последний момент еще раз увидеть... Крысолова из сказки и, возможно, бабочек.
Потому что... где-то там, очень глубоко, в том единственном месте, которое все еще принадлежало ему, впервые за много лет родилась необычайная легкость. Лже-Дмитрия больше не было. Он ушел. Весь, без остатка! И как после жалящих укусов ос, когда вместе с ядом организм избавляется от шлаков, унес все, что предшествовало его появлению. Унес долгие, почти бесконечные пугливо-бессмысленные годы с их фальсифицированными жалкими радостями, которые твердели вокруг антиквара и директора засохшим панцирем, пока не раскололи сознание.
Все это исчезло. Он был... пуст... Как в первый день. Как чистый лист бумаги. И в этой необычайной легкости словно капелька солнца упала в потаенный источник, засверкало, запульсировало что-то живое и радостное, похожее на синеву в крылышках бабочек.
— Я свободен? — губы слабо пошевелились, сердце отчаянно делало свои последние удары.
Дмитрий Олегович обернулся. Бабочек больше не было. Как и Крысолова из сказки. Он больше не смог их различить. Зато ему открылось кое-что другое. В круге света он увидел четырех мальчишек, которые держались за руки. Упрямо и дерзко, с самоубийственной отвагой, потому что только так и можно было, только подобное позволяло их лицам в этом темном месте светиться счастьем.
— Я свободен, — изумился Дмитрий Олегович, и слабые старческие губы растянулись в улыбке.
Ему удалось спастись, сбежать в последний момент. Нет, еще нет. Он посмотрел на мальчишек. Он должен кое-что... сделать.
Он узнал его сразу, хотя дом и был разрушен, а вокруг была черная пустыня... Его зрение прояснилось. В переливах света ему открылось, что дом совершенно цел, и вокруг него синевой блеснуло полуденное море. Это было как островок посреди темной пустыни, чистый, но не эфемерный оазис, и продолжалось лишь миг. Но этого мига Дмитрию Олеговичу хватило. Он понял, что должен сделать. Дмитрий Олегович узнал его сразу — дом с картины Айвазовского.
***
От Мамы Мии также не укрылось, что вокруг дома на мгновение показалось море и развалин больше не было. Этот их круг опасен. Очень опасен.
Ноготь на безымянном пальце Мамы Мии все продолжал расти, пока не сделался твердым и острым, как лезвие бритвы. Собака подобострастно смотрела на старуху, хотя в холке превышала ту ростом и одним ударом чудовищной лапы могла запросто снести ей голову.
Потом животное начало стелиться по сухой земле, громадный хвост заходил ходуном. Мама Мия склонилась к собачьей морде, тщедушной рукой обняла за шею. В глазах собаки светилась покорность, смешанная с немым обожанием.
— Шамхат! — ласково и все так же растягивая гласные, прошептала мама Мия. — Я выполняю свое обещание.
Движение старухи оказалось быстрым и точным. Ноготь как скальпель хирурга вошел в собачье горло и вскрыл его. Кровь брызнула, словно из пережатого и лопнувшего шланга. Мощное сердце чудовища выплюнуло целый кровавый поток. Часть брызг попала на лицо Мамы Мии, остальное устремилось в сухую землю. Собака взвыла. Вой тут же сменился жалобным скулежом.
***
Мама Мия повернулась к тому, кто не справился, лишил их приза.
— Твоими глазами, — прошипела она.
Тот еле дышал. Он сейчас умрет. Но это «сейчас» можно несколько растянуть. Совсем немного, чуть-чуть.
***
Агония животного продолжалась недолго. И все это время собака скулила и мотала головой, не понимая, что происходит. Потом упала на передние лапы, попыталась подняться и тяжело задышала. Из раны в горле, еще одной чудовищной пасти, которой ее наградила Мама Мия, воздух выходил с хриплым свистом.
Миха-Лимонад в оцепенении смотрел на эту дикую картину. Только что ему показалось, что в надломленных собачьих лапах вновь промелькнули колесные диски.
И в этот момент Миха вздрогнул. Прямо на ухо ему словно прошептали. И он смог отчетливо различить каждое слово. — Миха, у тебя будет всего один удар. Найди уязвимое место.
Икс?
Икс снова пытается ему что-то сообщить? Что-то, чего он никак не может понять? В последний раз, простой и удачливый, как три рубля, Икс протягивает свою роскошно-щедрую руку помощи?
Шамхат продолжает биться о землю. И вот ее кровь, смешанная с сухой пылью, заструилась тонкими потоками, все более светлея, и Миха увидел, что эта пыль, как облако, обволакивает агонизирующее животное. В облаке вдруг проступил контур, очень похожий на обводы автомобиля, потом на миг блеснула радиаторная решетка...
Все было закончено очень быстро.
Поток иссяк. Но развеивавшееся облако не открыло труп несчастного животного. На его месте красовалось кое-что другое. Он ВЕРНУЛСЯ. Блеклые дымы все еще стелились по тусклым, словно пока не совсем реальным поверхностям автомобиля. И... То ли был перепутан масштаб, и машина оказалась несколько крупнее, больше, то ли...
Миха крепче сжал в руке кувалду. Все решится сейчас.
(Это очень просто. И очень сложно.)
***
— Я танцевать хочу!
Дмитрий Олегович услышал шипение совсем рядом с собой. А старуха действительно двигается очень быстро. Он попытался сделать шаг назад, и это ему удалось. Старуха, беззубо ухмыльнувшись, слизнула собачью кровь со своей щеки. Дмитрий Олегович не стал думать о том, что ее язык показался ему необычайно, неправдоподобно длинным и... раздвоенным. Лишь сделал еще шаг назад. Мама Мия танцующей походкой, изображая немыслимые па, закружилась вокруг него, и вдруг прижалась к нему вплотную. А потом заглянула в глаза.
«Еще несколько ударов, — подумал Дмитрий Олегович. — Мое сердце должно выдержать еще несколько ударов».
***
Бабочки с его ладони исчезли. Или свет, сияние крылышек, померк настолько, что Миха был не в состоянии их различить.
Миха-Лимонад это видел.
Мама Мия ухватила Дмитрия Олеговича за талию, вытянув в сторону левую руку. Его тяжелое дыхание трансформировалось в стон боли, потому что старуха, полоумно хохоча, беспощадно развернула своего невольного партнера, потом еще раз... Она начала вальсировать с ним.
— Я танцева-а-а-ть хочу-у! — кощунственно-визгливая пародия на песню, ставшая Михиных ночных кошмаров, словно вступила в успокаивающе-безумный диалог с мучительными стонами Дмитрия Олеговича.
Старуха хохотала, вальсирующие приближались к Бумеру; Мама Мия кружила Дмитрия Олеговича с безумной скоростью.
(видел, как об дерево?)
— Твоими, твоими глазами!
А потом передние фары Бумера включились. Сначала тускло, но чем быстрее кружилась Мама Мия, тем ярче становился свет. В черноту панелей начал возвращаться глянцевый блеск. И вот заработала стереосистема, дергано, лихорадочно подыскивая нужный аккомпанемент, словно Бумер решил принять участие в общем веселье.
Мама Мия ударила Дмитрия Олеговича об автомобиль, все так же продолжая вальсировать и хохотать. Она ударила его головой, и кровавый отпечаток был немедленно поглощен лобовым стеклом. Радостно-шальной аккомпанемент зазвучал на полную громкость.
Они стали кружиться еще быстрее, и теперь уже сама Мама Мия приложилась виском и щекой к Бумеру, но ее соломенная шляпка с головы не слетела. Старуха захохотала. Еще быстрее: тела вальсирующих стали переплетаться, будто решив сделаться одним целым...
— Я танцевать хочу! — визжала мама Мия, а стонов Дмитрия Олеговича больше не было слышно.
Тела танцующих начали вихреобразно изгибаться, удлиняться, змеей тянуться к Бумеру, будто стали аморфной массой, впитываемой автомобилем. С хлюпающим звуком Бумер всосал их, размазывая по своим поверхностям когда-то благородную черноту роскошной двойкой от Armani. Лицо Дмитрия Олеговича кошмарной застрявшей миной на миг появилось в лобовом стекле, в пузырящемся ореоле какой-то тягучей субстанции, и Миха-Лимонад услышал его исполненный горечи, смертельно больной голос, отыскавший страшные слова для прощания:
— Я лишь хотел быть моложе... — а потом что-то совсем странное: — Смотри на меня! Смотри!
И все закончилось.
Но не совсем.
По поверхностям Бумера словно прошелся какой-то вздох, еле различимые тени — и двигатель автомобиля ожил.
***
Невидимая рука, таящаяся в густой хищной темноте салона, повернула ключ зажигания, и двигатель тихо заурчал.