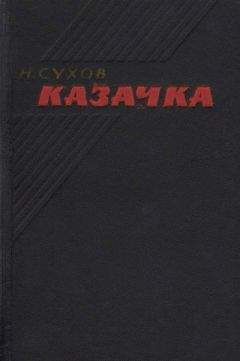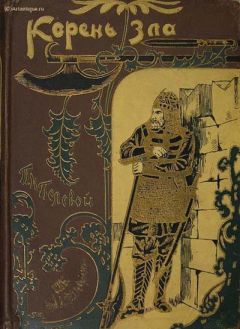Николай Сухов - Казачка
Второй раз уже казаки играли служивскую: «Звонок звенит…» Эту песню они любили особенно. В ней больше, чем в какой-либо иной, было и жгучей радости возвращения воина под родную кровлю, и жгучей грусти. Слова этой песни — немудрые, бесхитростные и до щемления в груди близкие; напев ее — невыразимо скорбный, но вместе с тем сладостный и облегчающий, мягкий, плавный и бесконечно изгибистый, как бесконечна та столбовая дорога, о которой упоминалось в песне.
Блошкин сидел за столом в переднем углу, зажатый с обеих сторон сослуживцами. Домашний ватник на нем был распахнут; лицо — бледное, в капельках пота. Уже затуманившимся, хмельным взглядом он обводил серых от табачного дыма однополчан, как бы призывая их к вниманию, отстранял вновь подсунутый ему стакан первача-самогона и, покачиваясь всем корпусом, полузажмурясь, пел на самых высочайших тонах, с какою-то бесшабашной увлекательной удалью:
Звонок звенит, и тройка мчится,
За нею пыль по столбовой…
Десятка полтора молодых, но уже бывалых людей, не раз глядевших смерти в глаза, в самозабвении подхватывали песню, и она, беспредельно широкая, со множеством повторов и разветвлений, скорбно лилась, размягчая и бередя казачьи сердца:
На крыльях радости стремится
Все с Дона воин боевой,
Он с юных лет с семьей расстался,
Пятнадцать лет в разлуке жил:
В чужих краях с врагами дрался,
Царю, отечеству служил…
Хозяйкой на этой вечеринке и стряпухой была Надя. Впрочем, большой нужды в ее стряпне и не было. Служивые здесь жили совсем не так, как в какой-нибудь Натягаловке, где каждому, кому не хотелось класть зубы на полку, приходилось как-то промышлять. Здесь к служивым, особенно к тем, у кого дом поближе к станции, то и дело приезжали родные, привозили кур, гусей, молока, яиц — и харчей почти у всех было невпроворот. Всякой снеди казаки понатащили и сюда, на вечеринку. Надя только подогревала, что нуждалось в этом, и раскладывала по тарелкам. Жаркая, раскрасневшаяся от огня, в форме армейской сестры, она выбегала из комнаты, где горела печь, взглядывала на однополчан, тесно прижавшихся друг к другу, — кое-кто из них сидел даже в обнимку, — и ей было радостно и немножко грустно.
Вот теперь они, служивые, пируют тут за одним столом, веселятся, все такие милые, близкие, сродненные одной и той же горькой судьбиной, а завтра с рассветом разлетятся во все стороны, и словно бы никогда и не бывали вместе, словно бы никогда и не было тех дней, когда они, подчас рискуя жизнью, помогали друг другу, выручали из беды. Вон рядом с Блошкиным, вправо от него, склонив над столом огромные плечи и подперев щеку ладонью, чтоб легче было вести песню первым голосом, горбился Петров, с которым Блошкин когда-то по пьяному делу учинил драку и был им избит. Сейчас они сидели обнявшись. У Петрова на висках вздувались и розовели от усилий жилы. И было странно на него глядеть: сам огромный, а голос у него бабий, визгливый. Вон Жуков, старый казак, попавший на вечеринку случайно: приехал на станцию по хозяйским надобностям и зашел проведать сослуживцев. Переряженный во все домашнее — льняную с расшитым воротом и подолом рубаху, черные, из шведки, стеганые штаны, валенки, — он был почти неузнаваем. Лишь раздвоенная щека делала его прежним и знакомым, тем самым Жуковым, с которым Наде пришлось в местечке Бриены вместе квартировать и который относился к ней с отеческой лаской. Голосом его, как известно, природа обделила, но он тоже пел, широко распахнув щетинистую пасть, хотя что и как он пел, слышно не было. Вон, хватив, видно, лишку, клюет носом белобрысый казак Березов, Надин хуторянин, сын чудаковатого старика Березова…
Грустно Наде становилось и оттого еще, что не было тут среди всех ее единственного кровного брата, от которого даже письма давно уже не получала. Она тайно вздохнула, и взгляд ее упал на Федора. Тот, в роли хозяина, сидел с краю стола рядом с хуторянином Латаным и все подталкивал его коленкой, заставляя петь. Латаный и без того старался из всей мочи, запрокидывал голову, крутил ею, поблескивая цветной щекой. (Он давно уже раскаялся, что когда-то по глупости пошел на приманку Трофима Абанкина и обидел Надю, намазав дегтем ворота, но Федору и Наде в том глупом поступке не сознавался из боязни потерять их дружбу.) Федор, должно быть, почувствовал на себе взгляды Нади и, не переставая подтягивать, улыбаясь ей глазами, поманил пальцем. Блошкин в это время, вскинув руку, взял снова на самых высочайших нотах, и песня зазвучала еще проникновеннее:
В глазах село его родное,
На храме божьем крест горит —
Его забилось ретивое,
Слеза невольно полилась…
Слова эти в сознании Нади внезапно оттолкнули все мелкие случайные мысли, которыми она старалась занять себя, чтобы не думать о том дне, когда вернется в свой Платовский, так как при мыслях о нем, о Платовском, ее охватывали самые противоречивые чувства: и радостно ей становилось, и страшно, и нестерпимо больно, — но при этих словах песни все случайные мысли Нади отлетели и в памяти с режущей отчетливостью встал родимый хутор: смуглый горластый мальчуган с отцовским, чуть изогнутым носиком и мягким густым коричневым пушком на голове… Небольшой под ясеневым крестом на кладбище холмик по соседству с молоденькой акацией… Суетной ласковый врач Мослаковский с выпуклыми надбровьями и коротенькой, клином, бородкой… Бабка со скорбными слезящимися глазами, а за нею бесконечной вереницей желанные и ненавистные лица… Ретивое у Нади действительно забилось, и ресницы едко увлажнились.
«До чего же противно, по-дурному вышло тогда, — промелькнуло в ее сознании. — Вспомнить, так… Понадеялась на отца Евлампия. Он, мол, выручит из беды, коль расскажу ему, не станет венчать. Какая дура была я, какая дура! Ушла бы сразу из дома, когда заварилось все это, и сынулю, свою детку, уберегла бы и бабаня, может, протянула бы еще. Столько ведь она приняла муки из-за меня!.. А сама-то я?.. А Федя?.. Однова теперь будут тыкать пальцами: вон, вон она — обротала чужого казака, убегла от своего, венчанного. Эх, пускай тычут! Пускай! Надоест — и бросят. Да и убиваться по вчерашнему дню — что проку! Пролитое полно не бывает! Другой раз умнее буду — не опутают. Нет уж, не опутают!»
Она подошла к Федору, села с ним рядом, положив ему в горячую, сильную, ласковую ладонь свою руку, скользнула глазами по жарким лицам сослуживцев, и в многокрасочные узоры голосов, расцвечивая и оживляя их новой шелковистой стежкой, вплелся ее нежный взволнованный голос:
Нежданный гость в окно стучится,
Он входит быстро в круг родных.
Его родные не признали:
«Скажи, служивый, чей ты есть?..»
Часть четвертая
I
Новый, тысяча девятьсот восемнадцатый год начинался в хуторе Платовском диковинно. Никогда еще хуторянам, и даже тем из них, самым древним, у которых уже правнуки разгуливали по улицам, присматривая себе под пару, — никогда еще не доводилось им видеть такого, что в том, восемнадцатом, году было и промеж людей, самое главное, да и в природе.
Январь, как и обычно, стоял ясный, морозный. Но вот в пору самых зверских холодов погода переломилась, и круто, неожиданно. Еще днем жгла, захватывая дыхание, стужа, а к ночи как-то сразу отпустило: с низовья подул влажный оттепельный ветер, небо кругом обложили грузные облака, и хлынул дождь. Сутки целые он лил ливмя. По хутору, как заправской весной, да такой притом, когда она бывает особенно дружной, зажурчали нагорные поторапливающиеся к речке воды. И речка взбунтовалась: посинела как бы от натуги, покромсала лед и выплеснулась из русла. Всю побережную улицу, Заречку, она закидала ледяными глыбами.
В феврале над бугром, догола ощипанным по-осени овцами, уже поднималось марево. Это солнечными днями, по утрам. На пригревах неуверенно проклюнулась зелень. И жаворонки хоть и робко пока, но уже начали опробовать голос. Хуторяне, дивясь такой небывальщине, застучали во дворах топорами: спешно принялись налаживать бороны, чинить телеги. Абанкинские батраки, понукаемые нетерпеливым хозяином, вывезли в поле кое-какой необходимый при вешних посевных работах инвентарь, хоть быки местами еще и вязли по самое брюхо. На той деляне ясли бросили, на этой — колоду или старую арбу. Поставили, так сказать, вешки на своих участках. Народ балованный пошел: того и гляди какие-нибудь супостаты опять загонят плуг в чужую землю, якобы невзначай, по ошибке.
И вдруг в конце февраля, как раз в тот день, когда, по поговорке, птица гнездо завивает, а перелетная летит из жарких мест, дохнул московский ветер, забористый, колючий, такой, что в одну ночь снова задернул речку вершковым льдом; потом закурил буран, света белого не видно было — и долго еще после этого держались неподобные холода.