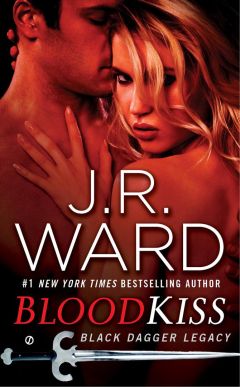Роберт Уоррен - Место, куда я вернусь
что было несколько странно напевать этому ребенку, если учесть, что, к восторгу его бабушки и в соответствии с пожеланием матери, хоть она и была атеисткой, ему на восьмой день жизни было сделано обрезание, обставленное с большой помпой в роскошной гостиной вышеупомянутой бабушки.
По древним законам, торжественная церемония обрезания разрешается только в том случае, если мать ребенка еврейка, и поэтому я оказался при этом в значительной мере отодвинут на второй план, хотя ко мне и было проявлено должное уважение как к биологическому отцу, в то время как ребенок переходил из рук в руки — от бабушки к двоюродному брату жены, потом к самому почетному из троих, выражаясь современным языком, спонсоров, а потом к сандеку — обязательно мужчине, который должен держать ребенка на коленях, пока на его крохотный член накладывают зажим и скальпель делает свое дело.
Но вернемся к моим вечерам с Эфреймом. После того как он, насытившись, срыгивал, я закутывал его в одеяние, закрывавшее все тело и оставлявшее открытым только лицо (а в некоторых моделях — еще и руки), и укладывал спать в обширную и очень дорогую кроватку, стоявшую в просторной детской рядом с нашей супружеской спальней. Мой кабинет был всего лишь через две двери дальше по коридору, и я мог легко услышать любой, самый слабый звук из детской, от мышиного писка до надсадного рева. Если по истечении определенного времени ни того, ни другого слышно не было, я на цыпочках прокрадывался по коридору и заглядывал в кроватку. Там было на что посмотреть: пухлые щечки, игравшие в затемненной комнате всеми оттенками румянца, длинные черные ресницы, тоненькие пальчики на голубой фланели, крохотные, но обещающие когда-нибудь научиться хватать и повелевать, и выпяченные губы, которые пока еще не могли ничего произнести, но которым несомненно предстояло высказать что-то очень важное для судеб человечества.
А потом, рано или поздно, у меня возникал вопрос: было ли такое время, когда, еще до того, как виски взяло верх, Франт Тьюксбери — тогда еще молодой Франт Тьюксбери, обладатель самого большого члена в округе Клаксфорд, и лоснящейся черной шевелюры, такой густой, что ее надо было расчесывать скребницей, и пары самых желтых на свете сапог из воловьей кожи, и крепчайших, белейших зубов под черными усами, и вдобавок самой очаровательной в округе женушки, — было ли такое время, когда молодой Франт прокрадывался по ночам в темную комнату и стоял, глядя на черноволосого ребенка мужского пола, лежащего в импровизированной колыбели и, вне всякого сомнения, сосущего большой палец или тряпочную соску с кусочком сахара внутри?
Лишь изредка я позволял себе размышлять над этим вопросом. Чаще всего я просто крадучись уходил из комнаты. Могу сознаться, что однажды, когда я не ушел из комнаты, а стоял там и проклятый вопрос стучал у меня в висках, я в конце концов подошел к дорогой старинной кроватке, наклонился, поцеловал повернутую ко мне розовую, всю в пушке, щечку и дал волю слезам.
Но обычно я, как уже было сказано, крадучись уходил из комнаты, удержавшись от всяких проявлений такой несвойственной мужчине слабости, и погребал эту сторону своей души и своей жизни под грудой работы, за которую с рвением принимался. Любой работы, какая только была под рукой, — пусть сама по себе она доставляла мне все меньше удовлетворения, но она была надежным убежищем, куда я все чаще и чаще спасался бегством.
Бегством от чего? От всех других дел, которым я с такой методичностью посвятил себя? От удовольствий и радостей, к которым я стремился? От самого факта, что в этой работе я преуспевал, и преуспевал настолько, что в недалеком будущем мог рассчитывать на ленточку Французской академии в петлице и на полную коробку почетных медалей? Даже от славы?
Моя жена тоже преуспевала в работе, и это меня радовало. К концу четвертого года нашего брака состоялась персональная выставка ее фотографий, пользовавшаяся большим успехом. Мы отметили это событие маленькой вечеринкой, на которой главным героем был Эфрейм, уже научившийся ходить. На следующий год ей присудили премию в Сан-Франциско и другую, еще более престижную, в Филадельфии. Два года спустя была выставка в Музее Нью-Йорка, на которую я ее сопровождал, а вскоре после этого вышел и был встречен с большим энтузиазмом очень красивый альбом ее работ, представленных на этой выставке.
Иногда мы разлучались — например, когда я уезжал на какую-нибудь конференцию, или для чтения лекции, или для получения — уже не в первый раз — диплома почетного доктора, или когда она ездила на свою выставку или получала заказ в другом городе. Правда, на мою первую конференцию в Европе она поехала со мной и на одной из церемоний вручения мне диплома тоже присутствовала, но такие совместные поездки было нелегко устраивать, даже несмотря на то, что ее мать, тоже жившая в Чикаго, всегда с радостью брала Эфрейма к себе. А когда мы оба были дома — и это бывало часто, — все шло в основном как прежде: оба много работали, проявляли неподдельный интерес к работе друг друга, участвовали в достойных общественных делах, добросовестно ходили в гости (все чаще, однако, — к людям ее круга) и возвращались домой, слегка возбужденные дорогостоящей выпивкой, чтобы броситься в постель, обменяться кое-какими предварительными ласками (иногда несколько механическими, иногда чрезмерно изысканными, иногда лихорадочными) и изобразить ту пресловутую зверюшку.
А потом в одно воскресное утро, после того, как мы накануне поздно вернулись из гостей, я немного опоздал к завтраку и увидел, что она делает вид, будто читает газету, на которую капают обильные слезы. Все еще не совсем проснувшись, но будучи в довольно хорошем настроении, я еще в дверях спросил, не ушиблась ли она. Она подняла залитое слезами лицо, на котором было написано такое глубокое отчаяние, какого я еще никогда в жизни не видел, и заявила, что она этого больше не выдержит.
— Чего? — спросил я и направился к ней, намереваясь заключить ее в обычные утренние объятия, но не успел проделать и половины пути, когда выражение еще большего отчаяния на ее лице и выкрик «Всего!» заставили меня замереть на месте.
Вероятно, я был так ошарашен по той простой причине, что как раз перед этим, восстанавливая в затуманенной алкоголем памяти наши действия после возвращения домой, внутренне поздравлял самого себя с тем, какую отменную (во всяком случае, по нашим теперешним меркам) зверюшку мы изобразили. Уязвленный до глубины души, я стоял как вкопанный, а в ушах у меня звучал ее голос, который предложил мне на скорую руку позавтракать, надеть штаны, разыскать Эфрейма и отвезти его на воскресенье к бабушке, чтобы мы могли «ПОГОВОРИТЬ» — это слово так и было произнесено: в кавычках, прописными буквами и курсивом. Я махнул рукой на завтрак, надел штаны, разыскал Эфрейма и отвез его в роскошные бабушкины апартаменты, стараясь не прислушиваться к его болтовне и даже убедить себя, что его вовсе не существует. Насколько все было бы проще, если бы его действительно не существовало! Потом, когда я с ним прощался, мне вдруг показалось, что мое сердце вот-вот разорвется от сознания вины, и я обнял его так крепко, что он вскрикнул «Ой!» и вырвался у меня из рук, не сказав больше ни слова.
В такси по дороге домой я стал припоминать прежние полные радости вечера, проведенные наедине с ним, и при этом обнаружил одно обстоятельство, которое до тех пор всегда старался вытеснить из памяти, — обстоятельство, которое, видит Бог, вовсе не бросает тени на мою любовь к нему. Некоторое время, как я уже упоминал, его одевали на ночь так, как, насколько я понимаю, обычно одевали ребенка этого возраста — в нечто вроде мешка из фланели с зашитыми наглухо рукавами и штанинами и с капюшончиком для головы; все это застегивалось на молнию, и получался такой уютный сверток. Но иногда при виде этого свертка у меня появлялись совсем другие ощущения — панический страх, какой испытывает животное, попавшее в ловушку, боязнь задохнуться, как будто это меня так запеленали. Рывком распустив галстук (если я был в галстуке) и расстегнув ворот, я шатаясь выходил из детской и стоял в темном коридоре, прислонившись к стене и жадно глотая воздух. Если на мне был пиджак или халат, я снимал их, прежде чем снова сесть за работу — источник блаженного забвения. Через некоторое время я, конечно, начинал чувствовать себя идиотом и зашвыривал этот эпизод в самый дальний уголок памяти, куда выбрасывают старые ботинки, давно оплаченные счета, уже не нужные выдумки, в которые больше сам не веришь, надежды, которые питал когда-то, и дохлых кошек.
Но вот я вышел из такси и под солнцем гойского шабата, с ключом в руке, подошел к двери своего дома, где меня ждали полное отчаяния лицо и это «всё», разговор о котором предстоял, — и тут одна из таких кошек, которая, как я думал, валяется дохлая на куче мусора в самом дальнем уголке моей памяти, издала хорошо слышное «мяу!».