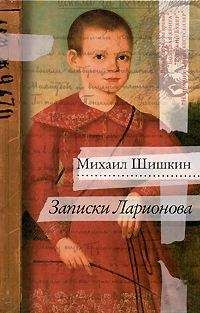Михаил Шишкин - Всех ожидает одна ночь. Записки Ларионова
Папа, расскажи мне что-нибудь про маму.
Женя, я устал.
Расскажи.
Что тебе рассказать?
Что-нибудь.
Что что-нибудь?
Все равно.
Хорошо, завтра, я очень устал.
Сейчас.
Про что тебе рассказать?
Не знаю. Расскажи, как тогда, студентом, ты залезал к маме на даче в окно, а ее отец щелкал щипчиками.
Я уже рассказывал.
Расскажи еще.
Женя, отстань.
Не отстану.
Хорошо, значит, так. Твоя мама с родителями жила на даче в Удельной. Женя, зачем все это?
Рассказывай.
У ее отца были длинные ногти. Он называл их щипчиками и все время пощелкивал. Сам был уверен и всех убеждал, что от комариных укусов помогает, только если выдавить ногтем на укусе крестик. Всех врачевал. И в мою руку все норовил впиться своими щипчиками. После вечернего чая я простился и отправился на станцию, потому что на следующий день уезжал в военные лагеря фельдшером на три месяца. Пошел-то, конечно, не на станцию, а купаться за запруду. Как стемнело, незаметно вернулся. Окно было открыто. Отец уже спал, а мать ночевала в городе. И вот это было в первый раз. Самое смешное — мы не знали, что делать с простыней. Крови немного, но все равно. И еще замучили комары. Мы лежали и без конца хлопали друг друга. Я сказал: «Скажешь, что придавила комара-кровопийцу». А она хохочет. Так ничего и не придумали. Рассвело, я оделся и хотел спрыгнуть с подоконника. Она шепчет: «Подожди!» — и протягивает скомканную простыню. А на подоконнике стояла стеклянная банка с водой, цветы какие-то. Когда спрыгивал, столкнул ее локтем — разорвалась, как бомба. Четыре же утра. Сиганул через забор и бегом на станцию. Не бегу — лечу. Да еще ветер. Я развернул простыню, поднял за концы над головой и ору на всю округу как полоумный: «Ура! В атаку за мной, ура!» — и простыня надо мной летит.
Вот, Женечка, и ты. А я загадала: если сегодня придешь, все будет хорошо. А что, собственно, хорошо — и сама не знаю. Ничего ведь и не нужно. Была такая, как ты, — всего хотелось. А сейчас ничего нет и ничего не надо. Алешенька со своей Верой скоро приедут. Прислал телеграмму. Хотели у моря подольше побыть, а выдержали только месяц. Скучно там. До обеда, пишет, ходят по пустому пляжу и кормят чаек, а вечером гастроли театра лилипутов. Вот смешно — я в Ялте сто лет назад была, и тоже лилипуты. А с Верой все хуже. Капризничает, устраивает истерики, скандалы на людях, плачет по ночам. Он с ней измучился. А что делать, надо терпеть. Недолго ведь осталось. Это ее, Женечка, Бог наказал. Всех накажет, ничего никому не спустит. Там ведь никакого Страшного Суда не будет. Все здесь. Ты, Женечка, даже не знаешь, какая она подлая. Обманывала Алешу. Я-то все знаю. Алеша был в экспедиции в Средней Азии, отлавливал каких-то своих грызунов. Звал с собой Веру, а она, конечно, ни в какую. Я тогда жила с ними. Год только прошел после свадьбы. С Алешей она еще держала себя в руках, а тут начался сумасшедший дом. Собирается куда-то уходить и вдруг кричит: «А где пуговица?» У нее на пальто нет пуговицы. «Наверно, Верочка, потеряла где-нибудь и не заметила». — «Но я же, — говорит, — пришла домой, и все пуговицы были на месте!» Я ее успокаиваю: «Ну мало ли как в жизни бывает. Пуговица отскочила, а ты и не обратила внимания». А она кричит: «Но я же в своем уме! Все пуговицы были на месте!» Что ж, получается, это я ее поганую пуговицу тайком отрезала? Сколько лет прошло, а как вспомню эту пуговицу, всю трясет. Я должна была тогда ехать отдыхать в Териоки. Приезжаю на вокзал, сажусь в поезд, хочу достать билет, и вдруг — Господи, помилуй, — ни кошелька, ни билета, а в сумочке надрез, ровный такой, аккуратный. На вокзале в толкучке обчистили. Делать нечего, возвращаюсь домой. Под проливным дождем, с чемоданом. Наконец дотащилась. Смотрю, а в прихожей чужой зонт сушится. На вешалке — мужской плащ. Пахнет как-то странно, кем-то чужим, и еще стоит свежий запах лака для ногтей. Слышу — в ванной плещется вода, и кто-то там мурлычет, крякает басом. Открываю дверь в их спальню, Алешину спальню, а Вера сидит голая перед трюмо, спиной ко мне, ногу поставила на подзеркальник и красит ногти. Кашляю. Подняла глаза и увидела мое отражение. Я думала, вскрикнет, испугается, начнет просить прощения, изворачиваться. А она будто ни в чем ни бывало обмакнула кисточку во флакончик и давай мазать ногти на другой ноге. Я говорю: «Что же ты, Вера, молчишь? Скажи что-нибудь». А из ванны доносится плеск. Отвечает: «А что я должна сказать?» — «Как же так, — говорю, — только я на вокзал, а ты тут уже…» Смеется. Сидит враскоряку, большой ноготь красный, остальные еще голые. «Господи, кто ты такая? — Смеется. — Ну кто? Ты сама чем меня лучше?» Я говорю: «А как же Алеша?» — «А что Алеша? Как было, так и будет. Что мне, из окна, что ли, бросаться? А ты ему если чего расскажешь, он все равно не поверит. Иди и до вечера не приходи». Ну и пошла. А кто там в ванной был, я, Женя, сразу поняла. А тебе не скажу. Зачем?
Это же очень просто, Евгения Дмитриевна. Вот линейка и две пластинки на шарнире. Раз — открывается, два — закрывается. Вот этим шильцем выдавливаете на бумаге точки, но только по-турецки, справа налево. А чтобы прочитать, листок вынимаете, переворачиваете и читаете уже по-людски, слева направо. Дайте вашу руку. Чувствуете: одна точка сверху — это А. Две точки одна над другой — Б. Три точки в столбик и одна слева — В. Кстати, Брайль тоже музицировал. На его концерты приходил весь Париж. Играл на виолончели и органе. А у меня через неделю экзамен. Благополучно провалюсь, и мы от вас уедем. Жалко только Мирру Александровну. Она почему-то верит, что я стану великим музыкантом. Бедная, глупая матушка! Ей невозможно объяснить, что чуткости слуха, присущей каждому слепому, еще недостаточно, что она сама по себе не составляет музыкальных способностей и что истинный талант так же редок между слепыми, как и между зрячими. Один раз услышал, что профессор кому-то сказал: «Пустая затея, ни рук, ни чувства. А все высиживаю. Дома детки кушать просят. Голубчик, у меня же трое». Вернемся домой, буду работать настройщиком, тоже хорошо. Улыбнется судьба — женюсь на какой-нибудь доброй слепой девушке. Что еще нужно для счастья? Нормальные девушки, Евгения Дмитриевна, выходят за слепых только в романах. А если и выходят, то по незнанию. Слепые, Евгения Дмитриевна, жуткие, признаться, типы. Избалованы, капризны, обижены, мнительны. В общении подчиненность слепого почти непрерывна — он не выбирает своего собеседника, таковым является тот, кто желает. Постоянная зависимость унизительна и тлетворно влияет на психику. Эгоизм и тщеславие суть главные мотивы человеческих поступков — у слепых же это все разрастается без меры. Тщеславие слепого находит пищу в преувеличенном восхищении, выражаемом ему зрячими от жалости к калеке. Слепой всегда находится во власти другого, вот и становится поневоле подозрительным, недоверчивым, злым. Выйти замуж за слепого — все равно что принести себя в жертву, но только жертва эта — неблагодарная. Да вас и не поймут. Будут жалеть, сочувствовать, будто вы ушли в монастырь или стали сиделкой в больнице. И никому вы не сможете ничего объяснить. Так что, Евгения Дмитриевна, все кончится хорошо. Вот увидите.