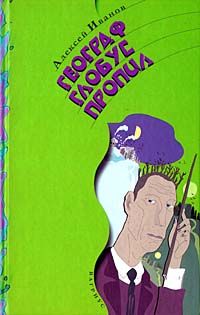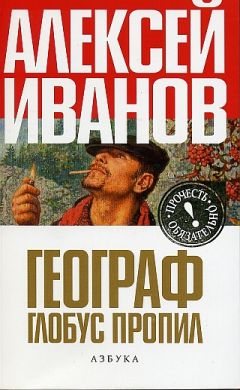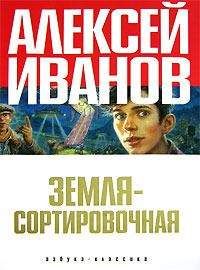Алексей Иванов - Географ глобус пропил
— На свою задницу, — добавляет Борман.
— Какая разница: Географ — не Географ, — подает голос Демон. — Какой он есть, такой и есть. Дело-то не в нем, а в том, что вообще это такое — поход...
Я дивлюсь внезапной мудрости Демона.
— Да Географ командовать совершенно не умеет, — заявляет Борман. — Не умеет, а берется в поход вести.
— А ты умеешь, бивень, да? — наскакивает Градусов.
— Так что — я... Я ведь командовать-то не собирался...
— Дак чо — командовать, — пожимает плечами Люська. — Его бы все равно никто не слушал. И никого бы не слушали, не только его.
— Я бы первый и бузил, — соглашается Градусов.
— По тебе и видно, — бормочет Борман.
— Тут не командование главное, — говорит Маша. — Может, он и прав, что не стал командовать, я не знаю...
— Тут главное — какой он человек, — заканчивает за Машу Овечкин.
— Под Машкину дудку поешь? — фыркает Градусов.
— Да завали, — отмахивается Овечкин. — Ладно, с командованием мы бы и сами разобрались... Или бы вообще без него обошлись... Но ведь Географу на все наплевать — как Демону. Хочет — напивается, хочет — спит, хочет — в драку лезет. Он... как это... бросил нас в воду, и выплывайте сами, как сумеете... Он же опытнее, старше... В конце концов, он за нас отвечает.
— А ты сам за себя отвечай.
— Ну, он хоть какой-то пример нам должен подавать, что ли... — говорит Маша. — Он же учитель, а не так, не пришей кобыле хвост...
— А ты бы брала с него пример, если бы он подавал?
— Брала бы, — подтверждает Маша.
— Вот и бери, — советует Градусов. — С таким, какой он есть, мне баще.
Я лежу, делаю вид, что сплю, и слушаю, как шлифуют мои кости. Конечно, никакой я для отцов не пример. Не педагог, тем более не учитель. Но ведь я и не монстр, чтобы мною пугать. Я им не друг, не приятель, не старший товарищ и не клевый чувак. Я не начальник, я и не подчиненный. Я им не свой, но и не чужой. Я не затычка в каждой бочке, но и не посторонний. Я не собутыльник, но и не полицейский. Я им не опора, но и не ловушка и не камень на обочине. Я им не нужен позарез, но и обойтись без меня они не смогут. Я не проводник, но и не клоун. Я — вопрос, на который каждый из них должен ответить.
***— А что это за шняга впереди? — спрашивает Чебыкин.
— Да скала это, — говорит Овечкин. — Только растрескалась по слоям, вот и похожа на что-то...
— Сам ты растрескался по слоям! — шумит Градусов. — Убери черепок, нормальным людям ни хрена не видно!
Я приподнимаюсь и смотрю вперед.
— Это пристань, — говорю я. — Старая строгановская пристань.
В молчании мы медленно подплываем ближе. Берег разворачивается. Виден большой холмистый грязный луг, на котором догнивают беспорядочно разбросанные черные бревна. Луг кончается еловым косогором, за которым лежит глухое, дикое, непролазное урочище. В нем плавает сизая дымка. На камнях и упавших деревьях гулко рокочет маленькая речка. Дальше поднимается горбатая гора, лысая поверху. Между горой и речкой на берегу Ледяной стоит пристань. Темное, угрюмое небо низко навалилось над урочищем. Кажется, что урочище вдали, сворачивая, уходит не за гору, а за облако.
— Это речка Урём, урочище Урём и развалины деревни Урёмной, — говорю я отцам. — Гребите к пристани, пора на обед.
— Страшно-то как!.. — шепчет Люська.
— Даже причаливать неохота, — признается Чебыкин.
— Чо, я один воду лохматить буду?.. — орет Градусов.
Мы причаливаем за пристанью. Ее борта, обращенные к Ледяной и к Урёмке, сложены из огромных, грубо обтесанных валунов. Валунные стены поднимаются из воды на высоту моего роста. Два других борта пристани, видимо, были скроены из бревен. Но земля, плотно затрамбованная в этот короб, со временем расперла бревна и расплылась, а сами бревна истлели.
Мы поднимаемся на верхнюю площадку пристани, где рыжеют космы прошлогодней травы. У моих ног — валунный обрыв, под которым кружится темная вода. Слева, за Урёмкой, нестираной скатертью лежит долина вымершей деревни. Левую скулу обносит зябкостью из елового ущелья урочища — холодного, шумящего каньона, заштопанного вдали косыми стежками рухнувших стволов. Налево и направо широко распахивается Ледяная — мощный свинцовый поток, под тяжестью которого точно прогибается земля, и по уклону к реке бегут мелкие притоки, сползают скалы и сходит тайга. И над всем миром — взрытая облачная пашня, готовая вот-вот просеяться дождем.
— Мощная постройка, — шаркая сапогом по валуну, говорит Борман.
— Как египетская пирамида, — соглашается Овечкин.
— Пирамиды были бесполезные, — возражаю я. — А пристань строили для дела.
Чебыкин, присев на корточки, проводит пальцем по чуть заржавленной железной скобе, какими скреплены гигантские камни.
— Это, наверное, демидовское железо, — с уважением говорит он. — Я по телику кино смотрел про Демидовых. «Демидовы» называется...
— Все смотрели, — бурчит Градусов. — Не один ты такой резкий... Слушай, Географ, а как тут барки-то ихние причаливали? Тут же мелко, а они такие дуры были... — Градусов широко разводит руки.
И тогда я опять рассказываю отцам — про закопченные заводы Демидовых и Строгановых, про плотины и пруды, про барки и сплавщиков, про весенний вал, на гребне которого летели к Перми железные караваны, рассказываю про каменные тараны бойцов, про риск и гибель, про нужду и любовь, которые снова и снова выстраивали людей в ряд у могучих весел-потесей.
— Эх, эротично было на барках плавать... — завистливо вздыхает Чебыкин. Отцы молчат.
— А куда же все это подевалось? — негромко спрашивает Маша. — Сплавы, заводы, плотины, деревни?.. Плывем, и все кругом заброшенное — и церковь, и мост, и пристань... Как будто кладбище...
Отцы глядят по сторонам, точно рассчитывают увидеть то, что пропало. Но, конечно, ничего нет. Только голый косогор с трухлявыми бревнами, черный ельник, глухое урочище, старая пристань на берегу пустынной реки, посреди безлюдных таежных путин. Отцы молчат, словно вбирают в себя этот немой простор, одиночество, древнюю тоску земли. Облака медленно текут над нами. С высоты пристани видно, как вдали излучина Ледяной то вдруг сталисто загорается от упавшего рассеянного света, то блекло гаснет в тени. Я все слышу Машины слова: «Как будто кладбище...» То, что раньше нам казалось здесь страшной глухоманью, дремучей дикостью, угрюмой угрозой, на самом деле было печалью, невысказанной болью, неразделенной любовью. И я чувствую, как снова нашу разношерстную маленькую компанию посреди этого неприкаянного пространства сшивают незримые горячие нитки человеческого родства.