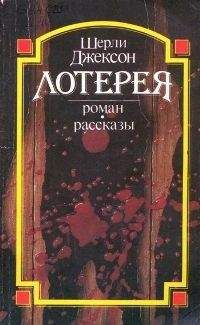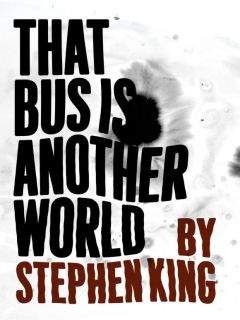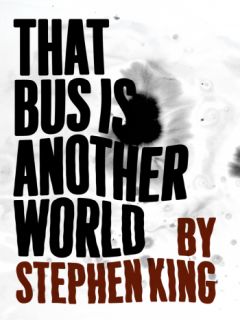Франц Верфель - Сорок дней Муса-Дага
Пастор Арам был порядком сердит на командующего обороной за неравномерное распределение рабочей силы. Ответственный за внутренний распорядок лагеря, он полагал, что сразу же начнут строить и жилища. Но запланированные лазарет и правительственный барак, не говоря уже о шалашах для обитателей Дамладжка, оставались в проекте. Только посреди Города, вокруг каркаса алтаря хлопотали пономарь, могильщик и несколько набожных прихожан. В стороне от будущего места богослужения уже стояла рама для высокой, сплетенной из самшитовых прутьев стенки алтаря. Религиозному сознанию Арама был бы ближе алтарь естественный, из увитых плющом каменных плит, какими изобиловала гора. Однако у Тер-Айказуна, очевидно, не лежала душа к романтике. А женатый приходский священник, которому было поручено строить алтарь, насмешливо пожал плечами, едва Арам заговорил о своем проекте. И Арам промолчал, подумав, что протестантский священник должен соблюдать осторожность со своими собратьями, григорианскими пастырями.
Был вечер. Габриэл в изнеможении лежал на земле и не сводил глаз с каркаса алтаря, казавшегося ему непомерно большим. Внезапно сквозь полудрему он почувствовал, что на него кто-то пристально смотрит. «Саркис Киликян, дезертир!»
Киликян, вероятно, был моложе Габриэла, ему едва ли минуло тридцать. Но это резко очерченное лицо с впалыми щеками могло быть и лицом видавшего виды пятидесятилетнего. Тонкая, белая – вопреки жаркому солнцу – кожа плотно облегала эту костлявую, насмешливую маску смерти. Казалось, не столько страдания, сколько дико прожитая жизнь иссушила его черты. Он устал от жизни, сыт ею по горло, – вот о чем говорило это лицо. Хоть его обмундирование, как и у других дезертиров, превратилось в отрепье, Киликяна отличало от всех их какое-то дикарское изящество. Такое впечатление он производил скорее всего потому, что был единственным свежевыбритым мужчиной среди своих сотоварищей.
Габриэла пробрал холод, он сел и протянул Киликяну сигарету. Тот взял ее не проронив ни слова, вынул из кармана какой-то варварский прибор для зажигания, высек из кремня огонь и после долгих попыток зажег пеньковый фитилек, прикурил и затянулся так невозмутимо-равнодушно, точно дорогие сигареты Багратяна были его повседневным куревом. Оба безмолвствовали, будто в молчанку играли, Габриэл с нарастающим чувством неловкости. Дезертир не сводил безжизненного и все же презрительного взгляда с белых рук Багратяна, пока тот, не вытерпев, крикнул:
– Ну, чего тебе от меня надо?
Киликян затянулся, выдохнул густую струю дыма, но выражение его лица ничуть не изменилось. Самое тягостное было то, что он упорно не сводил глаз с рук Багратяна. Казалось, он погружен в меланхолическое размышление о мире, где возможны такие холеные, нетронутые трудом руки. Наконец он открыл свой безгубый рот, обнажив скверные, почерневшие зубы. Его низкий голос звучал не так враждебно, как слова:
– Не подходящее это дело для таких шикарных господ…
Багратян вскочил. Ему хотелось ответить резкостью. Но, как на грех, он не находил слов. Неторопливо поворотившись к нему спиной, Киликян сказал по-французски – не столько Багратяну, сколько себе, – довольно чисто выговаривая слова:
– On verra се qu’on pourra durer.*
____________________
* Посмотрим, сколько можно это выдержать (франк).
____________________
Позднее, у лагерного костра, Габриэл расспросил людей о Саркисе Киликяне. Оказывается, его знали в окрестностях Муса-дага уже месяца четыре. Он был не из местных дезертиров, однако заптии особенно за ним охотились. От Шатахяна Габриэл услышал историю Саркиса Киликяна. Мусадагские учителя отличались живым воображением, поэтому Багратян едва не заподозрил Шатахяна в том, что, не довольствуясь известными ужасами погромов, он присочинил к повествованию об этой подлинно армянской судьбе еще кое-какие ужасающие подробности. Но Чауш Нурхан сидел рядом и время от времени утвердительно кивал головой. Чауш слыл покровителем дезертиров и человеком, посвященным в перипетии их жизни. Что до излишеств фантазии, то в этом Нурхан был вне подозрений.
Киликян родился в Дерт-Йоле, большом селе в долине реки Иссос, к северу от Александретты. Ему было одиннадцать лет, когда в Анатолии и Кнликии, как гром среди ясного неба, разразились характерные для времен султана Абдула Гамида погромы, притом один за другим.
Отец Киликяна был часовщик и ювелир, тихий и маленький человек, мечтавший жить как культурный человек, дать детям хорошее воспитание. А так как достаток у него был немалый, то и решил он старшего сына, Саркиса, послать учиться в духовную семинарию.
В тот черный для Дерт-Йола день часовщик Киликян запер лавку в полдень. Но это не помогло: едва он вошел в квартиру и собрался обедать, как нагрянули страшные клиенты и потребовали впустить их в лавку. Госпожа Киликян, статная светловолосая армянка, родом с Кавказа, уже подала на стол, когда ее муж, белый как мел, встал, чтобы отпереть дверь лавки. Успокаивая жену, часовщик говорил, что лавку на разграбление не жаль отдать, только бы жизнь спасти. И вот наступили минуты, каждая из которых была вечностью, и Саркис Киликян обречен хранить их в памяти, покуда сотворенная искони душа будет оставаться самою собою во всех своих превращениях и странствиях по вселенной.
Он побежал за отцом в мастерскую – она уже была полна людей.
Штурмовой отряд его величества Абдула Гамида. Предводитель – молодой человек с румяным, круглым лицом, сын мелкого чиновника. Самое примечательное в наружности этого упитанного юнца – обилие диковинных значков и медалей, которыми увешан его мундир. В то время как два суровых, деловитых курда принимаются за дело: опустошают ящики столов и бережно опускают их содержимое в свои мешки, этот разукрашенный чиновный сынок полагает, как видно, что на него возложена миссия чисто политического свойства. Туповатое бело-розовое лицо горит энтузиазмом, когда он орет на часовщика:
– Процентщик, кровосос! Все вы, армянские свиньи, ростовщики и кровопийцы! Это вы, нечестивые гяуры, виноваты в страданиях нашего народа.
Мастер Киликян спокойно указывает на свой рабочий столик с разложенными на нем лупой, пинцетами, колесиками и пружинками.
– Почему ты называешь меня ростовщиком?
– Это все обман. Ширма для ростовщичества.
На этом разговор кончился. В тесной комнате с низким потолком внезапно раздались выстрелы. Маленький Саркис впервые узнал удушливый запах пороха. Сначала он ничего не понимал, пока отец не согнулся над своим рабочим столиком и рухнул вместе с ним наземь. Не проронив ни звука, Саркис стрелой бросился обратно в жилую комнату. У стены, прямая и статная, уже ждала, не дыша, его белокурая мать. Обеими руками она судорожно обхватила своих дочек, двухлетнюю и четырехлетнюю. Взгляд ее был прикован к камышовой колыбели с грудным ребенком. А семилетний Месроп не сводил глаз с аппетитного бараньего жаркого – оно еще мирно дымилось на столе. Но едва в комнату ворвались вооруженные люди, Саркис схватил блюдо с жарким и отчаянным усилием, со всего размаха запустил им в пухлое, румяное лицо вожака громил. Отважный отпрыск чиновного рода с воплем скорчился, точно в него угодили гранатой. Коричневый соус растекся по роскошному мундиру. За первым метательным снарядом последовал второй – большой глиняный кувшин для воды – и нанес больший урон: у командира отряда пошла кровь носом, он взвыл и воззвал к помощи. Саркис, вооружившись кухонным ножом, заслонил собою мать. Этого жалкого оружия в руках одиннадцатилетнего мальчика было достаточно, чтобы непобедимые гамидовы воины уклонились от ближнего боя, несмотря на то что женщина была еще молода и хороша. Один из них, трусливо попятившись, кинулся к камышовой колыбели, выхватил тихо повизгивавший комочек и размозжил головку младенца о стену. Саркис крепче прижался к оцепеневшему телу матери. Из ее плотно сомкнутых губ вырвался тонко звенящий стон. И тогда начался обстрел женщины и четырех детей: гром, грохот, огонь, который мог бы обратить в бегство полк солдат. Комната наполнилась дымом, злодеи стреляли плохо, и, верно, по дьявольской прихоти судьбы, ни одна пуля не попала в Саркиса.