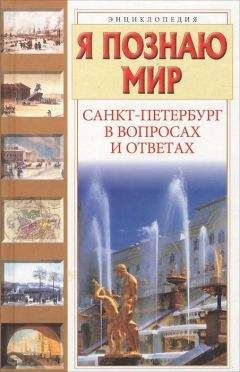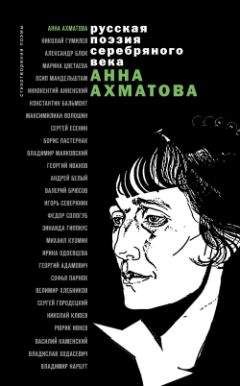Вячеслав Недошивин - Прогулки по Серебряному веку. Санкт-Петербург
«Пур эпате ле буржуа», – любил повторять Макс, что по-русски означало: «чтобы эпатировать мещан». Мистификация с Черубиной и есть эпатаж. Свои «мистификации» Волошин не бросит и после Черубины, и после дуэли из-за нее. Будет потом умолять юную Цветаеву печатать стихи о России «от лица какого-нибудь… ну, хоть Петухова». «Ты увидишь, – горячечно будет бормотать, – как их через десять дней вся Москва и весь Петербург будут знать наизусть. Брюсов напишет статью. Яблоновский напишет статью. А я напишу предисловие… Как это будет чудесно! Тебя – Брюсов… будет колоть стихами Петухова: “Вот, если бы г-жа Цветаева, вместо того чтобы воспевать собственные зеленые глаза, обратилась к родимым зеленым полям, как г. Петухов, которому тоже семнадцать лет”…» Марина, к счастью, не согласится, как пишет – из-за врожденной честности. А может, не согласится и потому, что Дмитриева до нее не устояла – согласилась…
Словом, однажды в «Аполлон» пришло письмо, подписанное буквой «Ч». «На сургучной печати девиз: “Горе побежденным!”» В стихах таинственная незнакомка как бы проговаривалась и о «своей пленительной внешности, и о своей участи – загадочной и печальной, – вспоминал Маковский. – Адреса для ответа не было, но вскоре сама поэтесса позвонила по телефону. Голос у нее оказался удивительным: никогда… не слышал я более обвораживающего голоса…» В письмах сообщала, что у нее «бронзовые кудри», называла себя «инфантой», говорила, что прихрамывает, «как и полагается колдуньям». Анненский, Вячеслав Иванов, Волошин, Кузмин, Гумилев – вся редакция решает: стихи печатать. Когда же «открылось», что Черубина – испанка, что ей восемнадцать лет, что отец у нее деспот, а духовник – строгий иезуит, чуть ли не вся редакция заочно влюбилась в нее. С особым азартом восхищался Черубиной Волошин. «Мы, – продолжает Маковский, – недоумевали: кто она? почему так прячется? когда же, наконец, зайдет в редакцию?.. Я ждал с нетерпением часа, когда – раз, а то и два в день – она вызывала меня по телефону… И было несколько писем от нее, которые я знал наизусть…» Словом, Маковский «влюбился в нее по уши, – пишет Гюнтер. – Гумилев клялся, что покорит ее». Ей посылали корректуры с золотым обрезом и корзины роз. Художник Сомов предлагал ездить к ней на Острова с повязкой на глазах, чтобы рисовать ее портрет. «Где собирались трое, речь заходила только о ней». Потом и литературный Петербург раскололся: за и против. Желчный Буренин из «Нового Времени» обзывал ее в статьях «Акулиной де Писаньяк». Но особенно злобствовала хромая поэтесса Лиля Дмитриева, у которой к вечернему чаю часто собирались «аполлоновцы». Она говорила даже, что, наверно, Черубина очень уж безобразна, иначе давно показалась бы почитателям…
Всю жизнь Черубины «придумал», конечно же, «рыцарственный» Волошин. Имя взял из какого-то романа Брет-Гарта, фамилию – от найденного корня виноградной лозы, похожего на человечка, которого когда-то прозвал Габриахом. А первым разгадал мистификацию, узнал «тайну Черубины», кажется, немецкий поэт Гюнтер[102]. Лиля сама открылась ему. «Когда перед ее домом я помогал ей сойти с извозчика, – вспоминал Гюнтер, – она вдруг сказала, что хотела бы немного пройтись». Рассказала о Волошине, о Гумилеве. «Я насторожился, – пишет Гюнтер. – У нее, значит, было что-то и с Гумилевым, – любвеобильная особа!» Тогда-то Гюнтер и пошутил: вы потому так смеетесь над Черубиной, что ваши друзья, Макс и Гумилев, влюбились в эту испанку. «Она, – пишет Гюнтер, – остановилась… “Сказать вам?” Я молчал. Она схватила меня за руку. “Обещаете, что никому не скажете?” Дрожа от возбуждения, она отступила на шаг, решительно подняла голову и почти выдавила: “Я Черубина де Габриак!” Улыбка на моем лице застыла. Что она сказала? Она Черубина де Габриак, в которую влюблены все русские поэты? Она лжет, чтобы придать себе значительности! “Вы не верите? А если я докажу? Вы же знаете, что Черубина каждый день звонит в редакцию. Завтра я позвоню и спрошу о вас…”» Назавтра именно так, разумеется, и случилось.
Потом будет подстроенная Гюнтером встреча Лили с Гумилевым. Гюнтер, узнав от нее, что Гумилев хотел бы жениться, услышав где-то пренебрежительный отзыв его о Лиле, поспешит передать ей эти слова. Лиля для объяснения позовет Гумилева в дом подруги своей, Лидии Брюлловой (Ординарная, 18). На Ординарную явится с Гумилевым и Гюнтер. «Они нас ожидали, – пишет он. – На Дмитриевой было темно-зеленое бархатное платье, которое ей шло. Она находилась в состоянии крайнего возбуждения, на лице горели красные пятна. Изящно накрытый стол… тоже ожидал примирения… Но что случилось? С заносчивым видом Гумилев приблизился к обеим дамам. “Мадмуазель, – начал он презрительно, даже не поздоровавшись, – вы распространяете ложь, будто я собирался на вас жениться. Вы были моей любовницей. На таких не женятся”»[103].
Гумилев, пишет Гюнтер, повернулся к женщинам спиной и ушел. Надо ли говорить, что слова Гумилева мгновенно стали известны Волошину. Волошину – рыцарю, несмотря на всю его мягкость и добродушие. Наконец, Волошину, по-прежнему влюбленному в Лилю. Дальше оставалась только дуэль. Но прежде пистолетных выстрелов, за два дня до них, на весь Петербург прозвучала звонкая пощечина…
Это случилось в Мариинском театре (Театральная пл., 1), под самой крышей его, в огромной, «как площадь», мастерской художника Головина, куда были приглашены «аполлоновцы» для создания коллективного живописного портрета. Все (а были Блок, Анненский, Гюнтер, Кузмин, Маковский, Толстой, Гумилев, Волошин) прогуливались по кругу. И вдруг, когда внизу грянул бас Шаляпина, репетирующего «Фауста», раздался оглушительный звук пощечины. «Я прогуливался с Волошиным, – пишет Алексей Толстой. – Гумилев шел впереди. Волошин казался взволнованным. Поравнявшись с Гумилевым, не произнося ни слова, он размахнулся и изо всей силы ударил его по лицу могучей своей ладонью. Сразу побагровела щека Гумилева и глаз припух. Он бросился было на обидчика с кулаками. Но его оттащили…» Волошин вспоминал потом, что решил дать пощечину «по всем правилам дуэльного искусства», как учил его сам Гумилев, – сильно, кратко и неожиданно. «Ты мне за это ответишь!» – крикнул Волошину Гумилев. Но раньше его слов все услышали слова Анненского: «Достоевский прав. Звук пощечины – действительно мокрый». Дуэль стала не просто возможной – неизбежной…[104]
Но о ней, впрочем, я расскажу у еще одного известного мне дома Волошина. На этот раз – последнего дома поэта в Петербурге.
…А что же Анненский, его призыв к поэтам «выдумывать себя»? Так вот, он, «высокий, прямой старик с головой Дон Кихота», умрет на ступенях Витебского вокзала. «Упал мертвым в запахнутой шубе и с зажатым в руке красным портфельчиком», – напишет его сын Валентин Кривич. Считается, что умер – из-за Черубины. Двенадцать ее стихотворений напечатал в «Аполлоне» влюбленный в нее редактор Маковский. Напечатал – вместо подборки стихов Анненского. Анненский рвет с Маковским, пишет ему письмо: «Я был, конечно, очень огорчен тем, что мои стихи не пойдут в “Аполлоне”. Жаль, что Вы хотите видеть в моем желании… именно… каприз. У меня находится издатель, и пропустить сезон… мне было бы не с руки…»