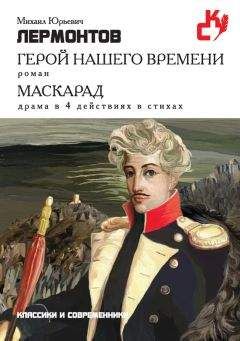Владимир Маканин - Андеграунд, или Герой нашего времени
— Ничо. Выпьешь как-нибудь в другой раз.
И слесарь Кимясов, пьяница, засмеялся:
— Не каждый же день.
Но, конечно, женщины и в нелюбви были первые. (Как и во многом другом более чуткие и непосредственные.) Могли бы, мол, и приветить тебя, Петрович, и щец дать в обед, и словцом утешить, сам знаешь! Но теперь — нет. Точка...
И опять их упор был на то, что не они переменились — я переменился, и что раздражение и нелюбовь общажников только и объясняются моей, мол, перед ними виной, чуть ли не кровью на моих руках, вот ведь как. Виноват-с! Мной же придуманное чувство (чувство вины) становилось реальностью. Смешно, но со мной даже не здоровались.
Не здоровались и грубо окрикивали в коридоре, а под спудом (я чувствовал) в их зажатых душах бился тоненький голосок, исходил тоскливый плебейский крик, что все равно, как с жильем, так и с собственностью, всех нас обманут. Родненькие, да нас же надуют. Да когда ж оно было, чтоб нас не надули. Горькое знание уже давило, а чувство неизбежной (в будущем) обманутости загодя развязывало им защитные инстинкты.
От одной только мысли, что ты обманут, а другому задарма (и лишь некоторой торопливостью) удалось обрести собственность — а с ней и новый, с иголочки, смысл жизни! — от одной этой мысли общажный человек может заболеть. Выгнали Фалеева: жил на третьем этаже у родичей, на птичьих правах, лет уж пять. Клятвенно уверял Фалеев, что не собирается прописываться, не претендует (и в приватизации не участвует), но ему твердо сказали — езжай в свой Ржев. Уехал.
Выгнали двух приживал, что с седьмого этажа.
На восьмом на непрописанного электрика Колю донесли всем миром в милицию.
Затем обнаружили и выперли старика Низовского, ютившегося на втором этаже, несчастного и беспамятного, старик зажился в гостях — да так в комнатушке и остался, ан нет, уезжай! (К кому первоначально приехал, старик даже не помнил. Уж много лет. Забыли и те, к кому он приехал.)
Обнаружив обострившимся чутьем потенциальных претендентов на кв метры, выдавливали их из общаги, как из тюбика. (Меня, разумеется, не надо было обнаруживать. Сторож. Меня знали.) Ловкий, мол, приживал, и опасный, опасный! Они боялись общения — боялись подобреть. Отводили при встрече глаза: а вдруг он (я) возьмет да и тоже запретендует на какие-нибудь общажные кв метры — мол, тоже ведь человек.
Особенно те, что сильно постарше, вспоминали теперь как манну небесную советскую нищету, равную для всех.
— Мы были другие! — восклицал старик Сундуков во дворе у столиков, где шахматы и залапанное их домино. Всерьез был расстроен. Ностальгирующий старик в мою сторону и не глянул, озлоблен. Не хотел меня видеть.
Правда, он трижды кряду проиграл в домино.
Вернулся Ловянников, вернулись срочно Конобеевы — прервали отъезд, чтобы тоже приватизировать свое жилье. Вернулись Соболевы (из-за границы). Осталась (из сторожимых мной) квартира Черчасовых, вот-вот могли объявиться и они.
Сам Струев черт бы с ним, но вот жена, злобная и тощая, выдубленная, высосанная пятью детьми сука, к которой как раз приехал ее братан шахтер. Простой мужик — просто все и понял. Приехавший в отпуск погостить и заодно (характер) покуражиться, он не давал мне пройти в коридоре, а Струева подсказывала, мол, двинь-ка его шахтерским плечом, братан. Задень-ка его!..
Коридоры — это ж мое. А шахтер, с амбицией и с крепкой (по тем временам) деньгой, двигался, как среднего размера танк, именно что средний — мощно, ровно наезжающий. Я сторонился. Поближе к стене. Как-то прошли совсем рядом, плечи коснулись, издав краткий шероховатый звук. Он, вероятно, пересказывал каждый раз, как я жмусь к стене, и баба Струева получала радость (и она, и ее муж, и сам герой-шахтер хохотали). В его коридорном надвижении на меня выявлялась философия, не личная, конечно, а с чужой подсказки — так легко им всем дающаяся общажная, общепитовская философия вытеснения.
Казалось, что эти люди слишком долго меня терпели и любили — почему бы теперь им не попробовать не любить.
— Но все равно можно жить, — уверял себя я (вслух, в пустой квартире Черчасовых). В конце концов, что мне до их чувств. А на жизнь нелюбимым (и потому изгоняемым) можно, мол, тоже посмотреть не как на злоключение, а как на приключение — некое интеллектуальное и по-своему захватывающее приключение с твоим «я».
Ко мне вечерами (я у Черчасовых) никто, разумеется, и ни разу не пришел пить чай, ни рассказать про жизнь-злодейку, ни даже мрачно спросить, нет ли во вчерашней выдохшейся бутылке глотка водки.
Зато как-то, подымаясь по лестнице, я расслышал, наконец, выраженный вслух глас народа — трое (этажом выше) стояли там, покуривали: «...А писателишка? Надо бы заявить на него в милицию. Если добром не уходит!» — «Запросто», — ответил второй голос, правда, негромкий, неуверенный. Они меня не видели. Третий скрепил: «Бомж и есть бомж», — и сплюнул никотинной струей в пролет вниз. Слюна летела мимо меня, обдавая ненавистью.
Даже пьяндыги, обычно заискивавшие, набрались независимости. Им объяснили, что такое свое жилье, свои углы, свои кв метры — и даже у них, запойных, когда они видели в коридоре меня, вспыхивало теперь в лице глуповато-счастливое выражение собственника.
Соседствующее с выражением всех обманутых: ведь нас все равно обманут, не так ли?
Меня тем временем угнетала, обессиливала мысль (тоже из литературы, но тоже моя) — мысль, что я порушил в себе нечто хрупкое и тонкое, данное мне с детства. Мысль и рисовалась как детская игрушка, десятилетиями забытая где-то под старинной кроватью — матрешка, паровозик, рогатка, кубик — не знаю что...
Старая, старенькая, как мир, мысль, что, убив человека, ты не только в нем — ты в себе рушишь.
Отслеживая мысль, я рассуждал и всяко философствовал, я как бы зажимал рукой рану — я был готов думать, сколько угодно думать, лишь бы не допустить сбой: не впустить в себя чудовищный, унижающий человека сюжетец о покаянном приходе с повинной. Покаяние — это распад. А покаяние им — глупость. Психологический прокол, когда в здравом уме и памяти человек вдруг записывается на прием, является, садится за столом напротив и... убил, мол, гебэшника, погорячился в аффекте! (Простите. И дайте поменьше срок.)
А ведь будет легче, нашептывала совесть. Как только расскажешь — легче.
Но тут же, поспешая, я вслух протестующе вскрикивал: а почему мне должно быть легко? убил — и помучься. И нечего облегчать жизнь...
Я еще только сходил кожицей (первым слоем), а они — вернее сказать, оно, их желейное коллективно-общинное нутро, уже среагировало и вовсю меня изгоняло. Оно меня отторгало, чуя опасный запашок присутствия на их сереньких этажах одиночки с ножом. (Опасный, в том самом смысле — мне все позволено.)