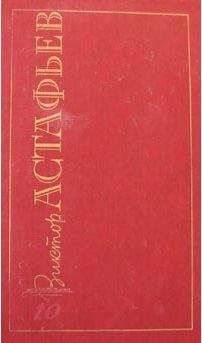Виктор Астафьев - Царь-рыба
Я стал на колени, дотронулся рукою до саранки, и она дрогнула под ладонью, приникла к теплу, исходившему от человеческой руки. Красногубый цветок, в глуби граммофончика приглушенный бархатисто-белым донцем, засыпанный пыльцой изморози, нежданно теплой на взгляд, напоминал сказочно цветущий кактус из заморских стран.
— Да как же тебя занесло-то сюда, голубушка ты моя ясная? — защипало разъеденные комарами веки — неужто такой я сентиментальный сделался? Да нет, не спал вот двое суток, гнус душит, устал…
И здесь, на первобытно-пустынном берегу реки, надо было перед кем-то оправдаться за нахлынувшую на меня нежность. Я бережно отнял лилию от луковки, чтоб на будущий год из земли снова взнялся цветок, и она насорила мне на руки белой крупки, один стебелек цветка чуть подвял, сморенно обвалился. Так же бережно я опустил саранку в пузырящийся поток, неподалеку от того места, где рыбачил, и, вынесенная из приурманной темени на свет, опущенная в снежную воду, лилия открылась, что тихая душа, освещенная яркой любовью, во всю ширь, со всем доверием, и дикий поток, показалось мне, заметно присмирел и ровно бы поголубел даже, шевеля бледные ниточки тычинок, на которых едва приметными мушками лепились три коричневых семечка.
Я перелистал потом справочники-травники и разные пособия, но нигде не отыскал подобной саранки. Встретилось в одном атласе под названием «даурская лилия» что-то похожее на нее, и я уж решил, что больше никогда такого цветка не увижу, но однажды на юге, в ухоженной клумбе засияла мне приветливо туруханская лилия — «Валлота прекрасная» было написано на табличке.
Бог знает, какими долгими путями добиралась в туруханские дебри южная валлота, утрачивая в пути горластую роскошь, назойливую яркость. Но. может, все наоборот? Может, нежный северный цветок спускался на юг по рекам и морям, подхваченное бурями, летело его семя, обретая в долгом пути имя, накаляясь от жаркого красного солнца? Перекалило цветок напористым южным солнцем. Южная ночь слишком грузно навалилась на него чернотой, и потому лилия стала жесткой на вид, ломка лепестками и напоминала скорее вареного рака, а не цветок. Лишь в середке лилии, в углублении граммофончика затаенно белела первозданная сердцевина, застенчиво освещая донышко цветка; наружу без опаски, с вызовом высовывались семена, не два, не три — целый пучок семян, переполненных грузом плоти, изнемогшей в раскаленном цветочном нутре, спешащих скорее оплодотвориться и пасть на землю.
Туруханскую лилию не садили руками, не холили. Наливалась она студеным соком вечных снегов, нежили и стерегли ее уединение туманы, бледная ночь и незакатное солнце. Она не знала темной ночи и закрывалась, храня семя, лишь в мозглую погоду, в предутренний час, когда леденящая стынь катила с белых гор и близкий, угрюмый лес дышал знобящим смрадом.
Как было, что было — не угадать. Но я нашел цветок на далеком пустынном берегу Нижней Тунгуски. Он цветет и никогда уже не перестанет цвести в моей памяти.
Настала еще одна ночь, мутная, до звона в ушах тихая и еще более душная. Тело мое замзгнуло, стало быть, прокисло, задохнулось от пота. Из-за мыса вымчалась деревянная лодка, задрав нос, полетела на меня, ударилась в берег.
— Дру-уг! — закричали с нее два окровавленных мужика. — Бери, чё хочешь! Дай намазаться! Съели! Сгрызли! О-о-ой!.. Это чё же тако?.. — Я подал им флакончик. Они со стоном намазались и воскрешенно выдохнули: «Во-о-осподи-и-и!». Рыбаки эти гнались за хариусом вверх по Тунгуске. Рыбу не догнали, себя гнусу стравили. Покурили, матерно ругая комаров: — Э-э! Закружался, затренькал! Чё, взял? Взя-ал, паскуда! Не ндравлюсь я те намазанный-то, не ндравлюсь?! — и от благодарности предложили мне сматывать удочки и двигать в Туруханск, пить вино.
Я отказался и, жалеючи: «Доедят ведь!» — мужики отдали мне червей, завели мотор, и умчались.
На свежих червей я взял еще одного сига, несколько рыб помельче, но густела марь, густел воздух, густел комар. Я сидел, засунув руки в рукава штормовки, всему уже покорившийся, ко всему безразличный, раскаиваясь в том, что не согласился уплыть с рыбаками.
Когда мы ехали в Туруханск, Аким не переставал хвастаться, что дружки его по геологической экспедиции, неутомимые разведчики недр, если потребуется, так и на луну доставят. Но на Севере все течет, все изменяется в народе куда быстрее, чем во всякой иной Земле. Подверженные зову кочевых дорог, соратники Акима давно покинули Туруханск, и, до пыху набегавшись по городу, он в каком-то бараке сыскал непроспавшегося мужика, который за червонец доставил нас сюда, единожды лишь за дорогу разжав рот: «Дожидайтесь пересменки». Пересменка — воскресенье, ждать еще два дня — попробуй доживи до назначенного срока!
Из скалистого устья Нижней Тунгуски послышался мощный рокот, гулкое, отрывистое, слишком какое-то уверенное биение моторного сердца. Встречь воде, задирая ее высоко и разделяя белыми крылами, шла серебристо блистающая обводами моторка. По-акульи хищно вытянутое тело моторки без напряжения скользило по воде. В носу судна заподлицо заделан кубрик с двумя круглыми фрамугами, застекленными авиационным стеклом.
Клюнув носом и отбросив ком воды, моторка точно бы ненароком подвернула ко мне. У руля сидел крепкий, непромокаемо и плотно, под космонавта одетый парень с изветренным лицом и адмиральски надменным взглядом. В ногах его пятизарядный вороненый карабин. Парень не здоровался, ни слова не говорил, ощупывал меня настороженными глазами, обыскивал, выворачивал карманы взглядом, пытаясь уяснить, какое там лежит удостоверение и кто затаился в палатке? Мотор поуркивал отлаженно, мощно, удерживая лодку на месте. Из кубрика выскочили два заспанных и тоже здоровенных парня, одетых в редкостные летные костюмы. Кормовой повел на меня взглядом. Подобранные, напружиненные парни тоже обшарили меня неприязненными взглядами, один из них раздосадованно бросил: «А-а!» — и стал мочиться через борт, стараясь угодить в поплавок моей удочки.
Три вот этих разбойника еще недавно были нормальными рабочими парнями, но утомило их производство. Они сконструировали на авиационном заводе и воровски, по частям вывезли люкс-лодку. Полмесяца назад увезли с одного из притоков Нижней Тунгуски шестьсот килограммов тайменьего балыка и вот идут за хариусом. Прикрытые брезентом, стоят в лодке бочки. Закончив харюзную страду, они примутся за сига. Тем временем взматереет птица, вызреет орех. Бензопилой они сведут сотни гектаров кедрачей. За один только сезон три добрых молодца вырывают из тайги дани на многие тысячи рублей, живут размашисто, разбойничают открыто. Пробовал их преследовать и застукать рыбинспектор Черемисин — был из леса подстрелен, и ладно, лодку течение вынесло к Туруханску.