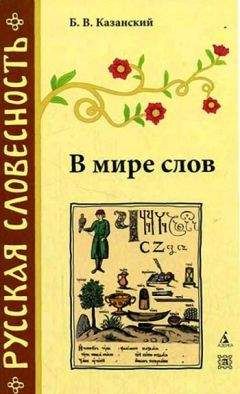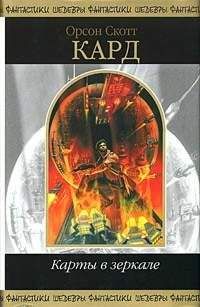Патрик Нит - Новоорлеанский блюз
Позже, когда Муса, напустив на себя скромность, получил все заслуженные аплодисменты и восхищенные похлопывания по спине, Джим, взяв его за руку, отвел в угол. Он и сам удивился тому, как резко и сердито звучал его голос.
— Муса! — начал он.
— Да, Джим.
Но тут к ним подошел мужчина, лицо которого было похоже на отражение на выпуклой стороне ложки. Он был пьян и к тому же настроен враждебно. Остановившись возле них, он положил руку на плечо Мусы; похоже, он замыслил что-то недоброе.
— До чего же дерьмовый трюк ты нам показал, — неприятным, скрипучим голосом произнес мужчина.
Муса заморгал, словно алкогольные пары, выдыхаемые этим человеком, резали ему глаза. Он осторожно взял руку мужчины и убрал ее со своего плеча.
— Простите, — вежливо обратился к нему закулу, — в данный момент я разговариваю со своим другом. Будьте добры, дайте нам поговорить наедине.
— А я, блин, говорю с тем, с кем хочу. И сейчас я хочу говорить с тобой. Так ты понял, что я говорю с тем, с кем хочу, а сейчас я хочу говорить с тобой. Ну что, дошло до тебя?
Мужчина навис всем телом над закулу, а тот слегка отстранился и со спокойной улыбкой произнес:
— Конечно.
Джим был готов вмешаться, но Муса жестом руки остановил его.
— Ну до чего же дерьмовый трюк ты нам показал, — повторил мужчина. — Хуже, чем дерьмовый! Да ты и не представляешь себе, что такое порча, но узнаешь, когда кто-то надерет твою первобытную задницу! Так что будь начеку в этом городе, потому что здесь полно настоящих шаманов, которым ничего не стоит отправить тебя назад в Африку, да так быстро, что ты и помолиться не успеешь. Нечего призывать людей быть честными, если ты сам нечестный, усек?
С этими словами он снова толкнул Мусу; на этот раз сильнее, чем прежде, отчего улыбка закулу стала только шире.
— Будь добр, оставь нас.
— Да пошел ты!
— Ты хочешь, чтобы я показал тебе настоящую магию?
— Да пошел ты! — заорал мужчина, уродливое лицо его перекосилось, и Джим приготовился к тому, что со следующей секунды начнется драка.
— Пожалуйста, оставь нас, — снова сказал Муса, на мгновение закрыл глаза, и мужчина, лицо которого было похоже на отражение на выпуклой стороне ложки, исчез. Муса снова открыл глаза.
Джим в недоумении посмотрел на Мусу, потом перевел взгляд на то место, где только что стоял скандалист, затем посмотрел на теснившихся у барной стойки людей, которые оживленно обсуждали что-то между собой, не замечая того, что делается вокруг, в том числе и исчезновения одного из собутыльников. Джим проглотил вставший в горле комок и спросил:
— Куда он делся?
— Я отправил его к жене. Бедная женщина. Ну как терпеть рядом с собой эту пьяную черную первобытную задницу! — риторически произнес Муса, лучезарно улыбаясь. — Если выражаться его языком. Ну ладно. Так о чем ты хотел говорить со мной?
Джим облизал губы и наморщил лоб, пытаясь сосредоточиться и вспомнить, о чем именно он хотел говорить, но тщетно, он ничего не мог припомнить. «Типичный прием Мусы, — подумал он, — вставлять палки в колеса».
— Я… — начал было Джим, Муса понимающе закивал, но на этом Джима застопорило. Закулу ободряюще и вместе с тем покровительственно погладил его по голове.
— Ты обеспокоен, — сказал Муса. — Ты, наверное, думаешь, что здесь делает этот старый Муса, мой старый друг из Замбави? Что он здесь делает со своими сновидениями и сексуальными привычками, позаимствованными у бабуинов? Зачем он появился здесь и все мне испортил? Ведь так? Позволь мне все объяснить тебе, Джим. Я здесь ради Сильвии, потому что я в долгу у нее за прошлое, а этого тебе пока не понять. Ты обеспокоен, потому что я притащил тебя в Новый Орлеан, а ты не знаешь зачем. Честно говоря, мусунгу, а ведь я и раньше говорил это, я и сам не знаю зачем. Но я закулу, а раз так, то ты должен доверять мне так же, как я доверяю своим снам. Тебя беспокоят еще и отношения, существующие между мной и Сильвией. Вот в этом я помочь тебе не могу. Ты обеспокоен, потому что ты ревнив, а ревность — это губительное качество, такое же опасное и неприятное, как болезнь, передающаяся половым путем.
— Я ревнивый? — вылупив от удивления глаза, спросил Джим.
— Да, ревнивый.
— Я не ревнивый!
Муса, пристально глядя на него, наклонился вперед и сощурил глаза так, что Джим видел только два крохотных, не больше дырки от укола, зрачка, и от этого Джиму стало не по себе.
— Конечно, ты не ревнивый, — медленно произнес Муса. — Я ошибся.
Но на следующий день Джим снова упился до бесчувствия нигерийским гиннесом, когда Муса и Сильвия пропали на несколько часов, отправившись в музей колдовства и шаманства; он сидел и размышлял над тем, как ко всем историям, кто бы их ни рассказывал, Муса давал свои комментарии, и, хотя сейчас сознание Джима было отуманено алкоголем, он признавал, что его мозг впитывал рассуждения закулу, подобно тому как бумажная салфетка впитывает пролитую на стол жидкость. Он допивал уже шестую пинту нигерийского гиннеса, качая из стороны в сторону головой, как будто боясь потерять мысль. Не помогло.
«А какого черта мне ревновать и переживать из-за того, что происходит между Мусой и Сильвией?» — размышлял Джим. Стоило ему подумать об этом, как ответ вдруг сам оказался в его голове, будто маленький ребенок, прокравшийся на цыпочках к вам за спину, и помимо воли Джим громко, во всеуслышание, произнес: «О! О как! Ну и ну!»
Сидевшие у дальнего конца стойки завсегдатаи, среди которых были Томпи и Перец, с любопытством посмотрели на него, но Джим этого не заметил. Он допил свой нигерийский гиннес, зажег сигарету и нетвердым шагом направился к окну, возле которого Двухнедельный наигрывал на гитаре все те же старые блюзы. Джим глубоко затянулся сигаретой и, выпуская дым, кивнул головой гитаристу, а тот, ответив на его приветствие полузаметным кивком, начал проигрыш очередной блюзовой темы чуть громче, чем играл до этого. Джим, пьяный в стельку, сел рядом с ним и запел. Он наклонил голову, крепко зажмурился и запел блюз так, как мог петь только косой английский сопляк.
— Сюда пришел я, чтобы потерять себя… — начал он и замолчал, прислушиваясь с мечтательным выражением лица к аккордам гитары Двухнедельника: «Ду-дуду-ду-ду!»
Но кое-что другое я нашел!
А вот сейчас она, не оглянувшись,
Ушла неведомо куда с шаманом.
Хойя! Теперь хочу забыться в блюзе я!
Когда нет сил забыться — один удел: напиться!
Джим открыл глаза. Все, кто был в баре, пересмеивались, обмениваясь многозначительными взглядами, но это лишь усилило его желание петь, и он, закрыв лицо ладонями, затянул снова:
Впервые в жизни я влюблен,
И мне не совладать с собою.
Но я влюбился в шлюху. Боже, что со мною!
Хойя! Она согласна спать с любым, кто платит!
Что ждет нас впереди? Боюсь, что сил моих
на эту роль не хватит!
Не будь Джим так пьян, он, конечно же, заметил бы, какой взрыв хохота раздался в баре, но только когда Двухнедельный вдруг перестал играть, до него дошло, что что-то не так. Однако он воспринял внезапно наступившую тишину как возможность запеть во весь голос. И запел а капелла, запел еще громче, не заботясь ни о смысле, ни о мелодии, ни о ритме.
— Она дешевая шлюха! — пел он громким скрежещущим голосом. — Хоть и выглядит не как шлюха! В ней есть особый шик! Но ее лучшее время уже прошло! Подведенные брови, наклеенные ресницы и ногти! Но все равно я люблю ее, хотя она годится мне в мамаши!
Качая головой из стороны в строну, Джим, охваченный чувством горечи и ревности, пел все, что приходило в его пьяную башку. Приоткрыв чуть-чуть глаза, он увидел две фигуры, стоящие в дверном проеме. И стоило ему раскрыть глаза пошире, как слова застряли у него в горле, как монеты в шланге пылесоса. Прямо перед ним стояли Муса и Сильвия. Он посмотрел на Сильвию: тубы ее дрожали, глаза были полны слез. Сколько же времени они стоят в дверях? Оглянувшись на присутствующих в баре, Джим нашел ответ на свой вопрос. Вновь повернувшись к Сильвии, он успел только заметить, как дверь бара «У Мелон» захлопнулась за нею. Он посмотрел на Томпи, на Перца, на Молли, но все они отводили глаза. Он посмотрел на Мусу, но оказалось, что закулу стоял в луже крови и (самым, как показалось Джиму, беспардонным образом) пристально разглядывал Двухнедельного. Джим перевел взгляд на старого музыканта, но тот лишь недоуменно пожал плечами.
— Не вижу ничего плохого в том, чтобы любить проститутку, — сказал Двухнедельный. — Моя мама была проституткой, но я ее любил.
Впервые Джим услышал его голос.
Джим с трудом встал на ноги и, пошатываясь, бросился вон из бара. Он проскользнул мимо Мусы, все еще неподвижно стоявшего в дверях. Выбежав на улицу, он во все горло выкрикнул имя Сильвии, но бившие прямо в глаза солнечные лучи ослепили его, и им овладел панический страх.