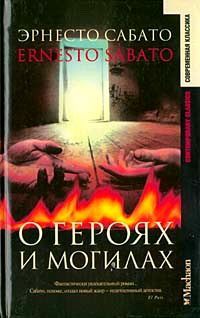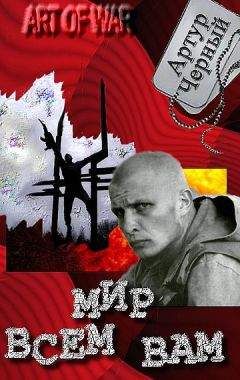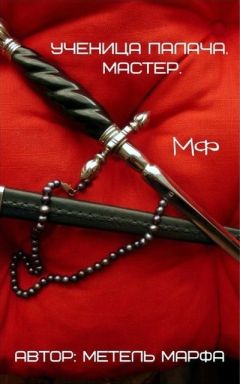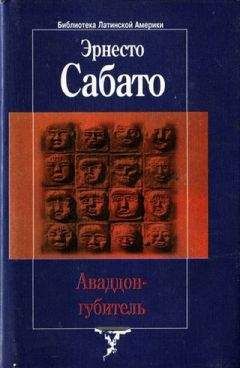Эрнесто Сабато - О героях и могилах
Таковы факты.
Что ж до их толкований и сплетен, тут было над чем призадуматься. Пожалуй, надо бы вам рассказать и то, что об этом думаю я, так как эти события отчасти помогают понять личность Фернандо, вроде того как истории о трагикомических проказах дьявола отчасти раскрывают его суть. Забавно, что слово «трагикомические» сейчас впервые пришло мне на ум в связи с Фернандо, но, кажется, оно тут вполне уместно. Фернандо по сути своей был человеком трагическим, но есть в его жизни моменты, окрашенные юмором, пусть и черным юмором. Известно, например, что во время сомнительных перипетий его женитьбы он дал волю своей склонности к мрачному юмору, разыграв инфернально комический спектакль, что доставляло ему огромное удовольствие. Об этом говорила его фраза, передаваемая дамами, любительницами канасты, фраза о католическом благочестии его семьи и о невозможности жениться на разведенной. Фраза вдвойне издевательская: он тут насмехался не только над католицизмом своей семьи, католицизмом вообще и над любыми принципами и основами общества – он еще изрекал ее перед матерью девушки, перед той, с кем у него была интимная связь. Вообще, смешивать «почтенное» с непристойным было одной из любимых забав Фернандо. То же и в словах о жене, по слухам произнесенных им, дабы не лишиться великолепного дома в Мартинесе: «Она сама покинула семейный очаг». Когда в действительности бедняжка, вероятно, в ужасе бежала оттуда или, что еще вероятней, была изгнана какой-либо дьявольской проделкой. Одним из развлечений Фернандо было приводить в дом женщин, которые явно были его любовницами, причем он убеждал женушку (а дар убеждения у него был неслыханный), что она должна их принимать и угощать; и несомненно, что он с умыслом довел этот эксперимент до крайности – жена устала и в конце концов сбежала из дому, чего Фернандо и добивался. Каким образом сохранилось за ним право собственности, я не знаю, но думаю, что он сумел уладить дело с матерью (она продолжала его любить и, следовательно, ревновать к дочери) и с сеньором Шенфельдом. А каким образом коммерсант стал другом человека, который, по слухам, был любовником его жены, и как эта дружба или некая слабость дошла до того, что опытнейший делец подарил роскошный дом человеку, который мало того, что был любовником его жены, но еще сделал несчастной его дочь, – все это навеки останется одной из тайн, окружавших темную фигуру Видаля. Но я убежден, что для этой цели он провернул какую-то хитрейшую интригу, вроде тех, к каким прибегают правители макиавеллического толка, чтобы подавить оппозиционные партии, которые к тому же враждуют между собой. Я представляю себе дело так: Шенфельд ненавидел жену, изменявшую ему не только с Фернандо, но еще раньше – с его компаньоном по фамилии Шапиро. Наверняка он испытал злорадное чувство, узнав, что наконец нашелся человек, который унизил и заставил страдать эту ученую даму, нередко выказывавшую ему свое презрение; от злорадства до восхищения и даже привязанности – один шаг, чему еще помог дар Фернандо очаровывать людей, когда он этого хотел, дар, подкрепленный полным отсутствием искренности и порядочности, ведь люди искренние и порядочные – когда к их отношениям с друзьями примешиваются нотки неудовольствия из-за каких-либо недоразумений, неизбежных в общении даже самых лучших людей, – не способны совершать подобные подвиги, очаровывать в корыстных целях, как делают циники и обманщики; и совершается это по тем же законам, по коим ложь всегда приятней правды, ибо правда всегда задевает – даже люди, близкие к совершенству, люди, которым мы хотели бы более всего нравиться и угождать, несвободны от недостатков. Кроме того, сеньор Шенфельд, вероятно, радовался еще и от сознания, что жена его страдает, чувствуя себя униженной из-за своего возраста, так как Фернандо обманывал ее с юной, прелестной девушкой. И наконец (быть может, это тоже играло роль), во всей этой операции он, Шенфельд, ничего не терял, ибо он и раньше был обманутым мужем, зато проигрывал сеньор Шапиро, у которого, как у соблазнителя, самолюбие должно было быть куда более обостренным, но также более уязвимым, чем у сеньора Шенфельда. И поражение Шапиро в этой единственной области, где он имел преимущество над своим компаньоном (хотя Шенфельд и был как супруг, возможно, не на высоте, в делах коммерческих ему не было равных), унижало его так ощутимо, что, по контрасту, силы Шенфельда должны были удвоиться. Наверно, так оно и было – не только его текстильные предприятия оживились благодаря новым, смелым коммерческим операциям, но также после женитьбы Фернандо все заметили в обращении Шенфельда со своим компаньоном явную, почти отеческую нежность.
Что до Хеорхины, могу вам рассказать о характерной для нее черточке. Брак совершился в 1951 году. Тогда я и встретился с нею на улице Маипу, вблизи Авениды, – случай очень редкий, она не любила бывать в центре. К тому времени я не видел ее лет десять. В свои сорок лет она поблекла, постарела, была грустна и более молчалива, чем прежде, – она и всегда не отличалась многословием, но в тот момент ее молчание было просто тягостным. В руках она держала сверток. Я, как всегда, испытал сильное душевное волнение. Где скрывалась она все эти годы? В каких неподобающих местах переживала втайне свою драму? Что делала все это время, о чем думала, что перенесла? Мне очень хотелось расспросить ее, но я знал, что это бесполезно – ее и вообще-то трудно втянуть в разговор, но уж вовсе невозможно услышать ответ на вопросы, касающиеся ее личной жизни. Хеорхина всегда напоминала мне иные дома в отдаленных кварталах, дома почти постоянно запертые и безмолвные, где живут только взрослые, окруженные тайною люди: какие-нибудь братья-холостяки, перенесший личную трагедию одинокий человек, художник-неудачник, никому не известный и мизантропически настроенный, зато с канарейкой и кошкой; дома, о которых мы ничего не знаем и которые открываются лишь в определенный час, чтобы почти незаметно принять съестное – не самих продавцов или посыльных, но только принесенное ими, что из-за полуоткрытых дверей забирает рука жильца-нелюдима. Дома, где по вечерам свет обычно загорается лишь в одном окне, вероятно, на кухне, где одинокий жилец ест и подолгу сидит; потом свет переносится в другую комнату, где он, возможно, спит, или читает, или занимается какой-нибудь никчемной работой – например, мастерит бутылки с корабликами внутри. Одинокий огонек этот неизменно вызывает у меня, человека любопытного и любящего строить догадки, разные вопросы: кто этот мужчина, или эта женщина, или эти две старые девы? За счет чего они живут? Получают ли ренту, или им досталось наследство? Почему они никогда не выходят? И почему свет у них горит до глубокой ночи? Может, они читают? Или пишут? Или же это одинокий и к тому же боязливый человек, способный сносить одиночество лишь с помощью могучего врага призраков, а именно света?
Мне пришлось взять ее за руку, чуть ли не встряхнуть, чтобы она меня узнала. Казалось, она идет в полусне. И было так странно видеть ее среди хаотического уличного движения.
На усталом ее лице изобразилась улыбка, подобно мягкому свету свечи, зажженной в темной, тихой, унылой комнате.
– Пойдем, – сказал я и повел ее в «Лондон».
Мы сели, я положил ладонь на ее руку. Как она осунулась! И я не знал, что ей сказать, о чем спросить – о том, что меня действительно интересовало, нельзя было спрашивать, а о другом не имело смысла. И я только смотрел на нее – так человек, бродящий по местам, где бывал когда-то, смотрит с нежностью и грустью, как годы изменили прежний пейзаж: поваленные деревья, разрушившиеся дома, заржавевшие чугунные решетки, незнакомые растения в старом саду, сорняки и пыль на грудах поломанной мебели.
Но не в силах сдержать себя я с отвратительной смесью иронии и огорчения высказался:
– Значит, Фернандо женился.
То был гнусный поступок с моей стороны, хотя и неумышленный, и я в нем мгновенно раскаялся.
Из глаз Хеорхины медленно и еле заметно поползли две слезы, словно у человека, погибающего от голода и пыток, жестоким, смертельным ударом я еще пытался выжать последнее, едва слышное признание.
Очень странно и для меня непростительно, что в этот момент я, отнюдь не пытаясь смягчить эффект своей злосчастной фразы, с досадою сказал:
– И ты еще плачешь!
На миг в глазах ее мелькнула искра, походившая на прежние искры, как воспоминание на реальность.
– Я запрещаю тебе осуждать Фернандо! – ответила она.
Я убрал свою руку.
Мы оба молчали и так, в молчании, допили кофе. Потом она сказала:
– Мне пора идти.
Давняя боль сжала мне сердце, боль, которая словно бы дремала все эти годы разлуки. Кто знает, когда я увижу ее опять.
Мы простились без слов. Но, сделав несколько шагов, она на миг еще остановилась и робко обернулась ко мне – в ее взгляде мне почудились нежность, боль, отчаяние. Мне захотелось побежать к ней, поцеловать ее увядшее лицо, плачущие глаза, горестно сжатые губы и просить, умолять, чтобы мы еще встретились, чтобы она разрешила мне быть подле нее. Но я сдержал себя. Я знал, что это утопия, что судьбам нашим назначены разные пути – и так до самой смерти.