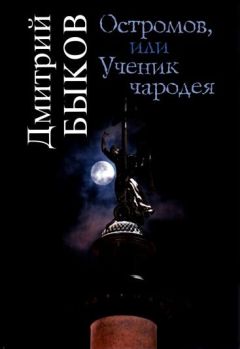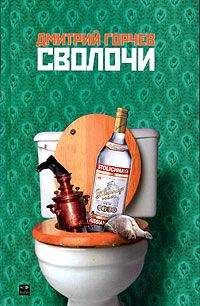Дмитрий Быков - Остромов, или Ученик чародея
— Я не пойду к вам, Кугельский! Я не пойду!
Политический заместитель вытаращил глаза.
— Да, я помню, — ледяным тоном промолвил Кугельский, сохранявший абсолютное присутствие духа. — Я помню, у вас именины красивого дяди.
— Черта ли мне старик с его шептунами! — заорал Барцев, не стесняясь ничьим присутствием. — Но завтра пятница, Кугельский! Слышите ли вы, пятница! В любой другой день недели я пошел бы к вам — но не в эту чертову пятницу, потому что по пятницам, когда западный ветер, я категорически не могу выходить из дома! Еще в гимназические годы положил себе это идиотское правило — и вот, представьте себе, теперь не могу. Так что я не пойду к вам, сами кушайте вашего кролика! Кролик — хорошо, вы еще лучше, но честь дороже. Слышите ли, Кугельский, и вы, Макагонов, слышите? Честь!
И торжествуя убежал, сумасшедший, хам, тварь, ненавижу. Никогда больше не дам ему в долг, не говоря приглашать, и не стану давать советы, пусть гонят к чертовой матери, если не умеет ценить человеческого отношения.
Еще позвал Татьяну, пришедшую как-то в газету требовать сатисфакции — написали, что она покончила с собой, а покончила с собой другая. Татьяну больше всего огорчало, что она повесилась. «Я никогда бы не повесилась! Это так… некрасиво». Тщетно уверяли ее, что та, другая, — могла повеситься, не обязана же она была считаться с пристрастиями этой Татьяны, фамилию он которой сразу запомнил: Муравлева. Фамилия редкая, и вдобавок тезка, хоть и тремя годами старше! Той было двадцать четыре. А что бы вы сделали? — спросил Кугельский. Я выпила бы яду, гордо сказала живая Муравлева. Он как-то к ней потянулся, быстро повел в столовую Ленстройтреста, не заметил особого отталкивания, на которое обычно натыкался (разучились угадывать величие, навык утрачен, смотрят на одну только надежность и социальное происхождение — так убеждал себя он сам, глядя в зеркало на идеально круглую физиономию, круглые очечки, мелкие глазки с выражением неизъяснимой гнусности, робкой и оттого еще более гнусной). Муравлевой вообще, казалось, было не до него. Она беседовала по большей части сама с собой. Она была существо мистическое. Ее волновали совпадения — вот и это, про напечатанную в газете гибель. Неужели она обречена?! Цыганка в детстве ей нагадала, что она будет жить очень долго, если только не умрет в молодости. Муравлева не знала, кончилась ли уже молодость. Когда Кугельский порывался ее целовать (возвышалась над ним целою головою), не отстранялась, но как бы слегка отмахивалась, словно от досадной помехи. Может быть, когда опять будет в трансе, удастся и все остальное, напоим и посмотрим.
И еще кого-то позвал, всех, кого мог, в сущности, и даже пропагандиста Тишкина, но чего-то не хватало, чего-то другого, для создания объема. Чего-то, чье присутствие льстило бы. И тут встретился Галицкий, какая удача. Галицкому можно было покровительствовать, он был несчастней Кугельского, и вместе с тем явно принадлежал к лучшему миру, куда Кугельского в прежнее время не пустили бы нос просунуть. А теперь покровительствовать, пожалте. Даня был очень, очень кстати. Вечер должен был пройти на ура. У слесаря попросил гитару — репортер Плахов на ней играл с большим искусством. В кооперативе купил конфект, любил говорить «конфекты» и всех поправлял, когда говорили не так. Взял также сыру, взял ветчины — все появилось, что жалуемся, непонятно. Взял также водки.
И как всегда, в последний момент совершил ошибку, почти непоправимую. Неся домой водку, встретил Сюйкина, пролетария. У Сюйкина на «Красном треугольнике» был график через сутки, штамповщик, вредное производство, и вот он шел за ужасающим ликером шартрез, которого пил, эстет, немерено. Сюйкин был пролетарий непростой, с запросами, и Кугельского презирал. Кугельский чувствовал это презрение со страшной остротой и утешаться мог только тем, что заодно Сюйкин презирал женщин, цветы, деревья, город Ленинград, а уважал только Отто Вейнингера за книгу «Пол и характер» и Дугласа Фербенкса за кинематографическую картину «Знак Зорро». Сюйкин был демонический пролетарий. Кугельский завидовал даже ему, потому что Сюйкин умел презирать все, а Кугельский к этому только стремился. Возможен демонический пролетарий, но не может быть демонического лавочника. Взгляд Сюйкина был сонный и хищный, презрительный взгляд хищника, перед которым не мясо. Кугельский был никак не мясо. Он не умел выдержать этот взгляд, хотя уже неделю тренировался. Сюйкин был основным неудобством нового жилья: жил этажом ниже и всем видом напоминал, что Кугельский так не может, не умеет, что ему очень еще далеко до. У Сюйкина были вечно полуприкрытые глаза, сломанный в отрочестве нос, резкие скулы, бесцветные вихры из-под промасленной кепчонки. Женщины сходили от него с ума. Он был тип горьковского босяка, но чувствовал себя злодеем экрана. На босяка обиделся бы, вообще был обидчив. Демонический пролетарий Сюйкин много читал иностранной литературы, путешествий в ярких зифовских обложках, и к Кугельскому пришел знакомиться, прознав, что тот — журналист.
— Вы журналист, — сказал он презрительно, — так я хотел бы взять у вас журналы.
Не попросить, а именно взять. Привыкли уже, сволочи, что все можно.
— Я из газеты, товарищ, — искательно сказал Кугельский. Маленький, круглый, он чувствовал себя карликом перед этим костистым и жилистым. — У нас не журнал. Мы печатаем, конечно, статьи и всякое, но не журнал, нет. У меня нет журналов.
— А из жизни кинобогемы вы печатаете? — в нос протянул Сюйкин.
— Мы иногда печатаем, — невесть почему оправдываясь, признался Кугельский, — рецензии, товарищ, и афишу к выходным…
— Я буду у вас брать, — снисходительно пообещал Сюйкин с сифилитическим прононсом.
— Хорошо, спасибо, пожалуйста, — залепетал Кугельский, разодолженный этим обещанием. Теперь он шел навстречу демоническому пролетарию Сюйкину, уставясь прямо на него, стараясь не отвести глаз, так что когда поравнялись, уже неловко было не заговорить.
— Я вас пригласить ко мне милости прошу сегодня вечером, — несвязно, пересохшим языком выговорил Кугельский. — Новоселье, будет, так сказать, интересно…
— Если время найду, — бросил занятой, демонический пролетарий Сюйкин. — Поросятина будет?
Поросятиной называл он женский пол. «Я люблю поросятину, только не в смысле разговоров», — говорил он в кругу друзей, когда они собирались в арке и страшно стояли там с пивными бутылками, одних пропуская, а к другим задираясь. Кугельский пока пользовался его покровительством, потому что мог дать газеты, а надолго ли это расположение — Бог весть.
— Девушки будут, — торопливо сказал Кугельский. — Но вы тоже, конечно, приводите, веселее же…
— Приведу, — сказал Сюйкин и сплюнул. — Если приду.
Господи, хоть бы у него нашлось дело, взмолился Кугельский, хоть отлично знал, что никакого дела у Сюйкина не найдется, у демонов не бывает дел, дела бывают у смертных. И поспешил к себе, маленький, бедный. Бедный, круглый. Маленький, круглый, бедный гадкий.
3Напились очень быстро, как в любой компании, где друг друга не знают и не о чем говорить. Дальше начинаются драки либо поцелуи и соответственно общие темы. В первые минуты стеснялись все, кроме демонического пролетария Сюйкина. Он явился не с одной, а сразу с двумя дамами. Одну он желал просто, вторую желал мучить.
— Ну фигура, — шепнула Варга. Сюйкин — как все малоразвитые люди, был интуит, — окинул ее презрительным взором, понял, что эта не по нему, и еще более задрал сломанный нос.
— Пфе, — громко сказал он. Даня покраснел от негодования и полез бы выяснять, что за пфе, но Варга дернула его за руку.
— Оставь, после, — шепнула она, и Даня — признаться, не без облегчения, — отвернулся.
Одна девица пролетария Сюйкина была бледная дегенеративная брюнетка, другая пышная, розовая, с заплаканными глазами блондинка. Были, кроме того, истеричка, назвавшаяся Татьяной, и явная профура, назвавшаяся Нонной. С Нонной были Лара и Рига, с удареньем на первом слоге. «Риголетта», пояснила она и недоуменно вылупилась, когда Даня не сумел спрятать усмешку.
— Вас прямо вот с детства так назвали? — спросил он. — С рождения то есть?
— Я сама так записалась, — сказала она с вызовом. — Вы оперы не знаете.
Даня хотел сказать, что как раз знает, и что опера про горбуна, — но, не желая умничать, смолчал.
Были два репортера, один с девушкой, и только в ней Дане померещилось нечто человеческое, заваленное, впрочем, таким количеством шлака, что она и сама себя не понимала. Это рождало в ней непроходящее смутное беспокойство. Ей постоянно хотелось что-нибудь сделать, но все выходило к худшему. Звали ее Варя.
За корреспондентами увязался и Двигуб — он всегда увязывался, никогда не ходил сам по себе, и даже в сортир, казалось, выдвигался не по зову природы, а потому, что кто-то авторитетный только что туда сходил. Однажды Мелентьев видел, как Двигуб шел по набережной в редакцию, просто шел ясным утром, пока другие приятственно жмурились от солнышка, — но на его печеном личике застыло озабоченное, нагоняющее выражение, словно он двигался за кем-то, кого ни в коем случае нельзя было упустить из виду — иначе можно Бог знает куда забрести! Глазками, носиком, всем телом ловил он в воздухе знаки. Двигуб в нынешнем мире составлял большинство. Результат долгого вырождения, жалкий остаток нации, заморенной войнами, голодом и русским способом управления, он не содержал в себе ничего человеческого — ни правил, ни личной воли; можно было, пожалуй, даже ему сострадать, узрев в нем Башмачкина, кабы этот Башмачкин не присоединялся тут же к толпе любых гонителей, как только в окрестностях отыскивалась шинель грязней его собственной. Немудрено, что Двигуб сделался в редакции комсоргом. Там хватало боевых ребят — взять хоть Рубина, в прошлом красного кавалериста, а ныне мастера уголовной хроники, со связями во всех милицейских отделах, или того же Плахова, душу любого общества, — но ясно же, что на комсорга нужен был не боевой, а исполнительный. Социальное его происхождение было безупречно, сын пекаря, а чего еще? Он и в газету попал по случаю, увязавшись за дружком, но дружок, полгода проработав, сбежал в кооператив, благо НЭП позволял обогащаться, а Двигуб остался, втянулся, ему тут хорошо было, инициатива не требовалась. Служил верстальщиком, должность техническая и ума не требующая, а чертить Двигуб умел, находил в аккуратном черчении то же наслаждение, что и Акакий в чистописании. Удавалась ему вообще всякая мелкая моторика — летом он, бывало, лепил из глины различных птиц, думал, не попробовать ли вязать: дело хоть и женское, а для нервов хорошо.