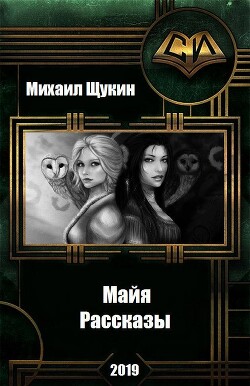Санитарная рубка - Щукин Михаил Николаевич
Арлекино что-то еще говорил, о чем-то спрашивал, но Богатырев уже не отзывался, он даже слов разобрать не мог.
Пробудился, тяжело выбираясь из глубокого сна, от громких и нетрезвых голосов — женских. Они звучали, перебивая друг друга, почти беспрерывно, срывались на вскрики и показалось сначала, что этих голосов в узкой комнатке очень много. Но Богатырев, чуть-чуть приоткрыв глаза, увидел, что за столом сидят две девицы, а Арлекино, повернувшись к ним спиной, стоит у окна и молчит.
— Да не хочу я туда идти — страшно! У меня прямо кишки наизнанку выворачиваются! — Кричала одна из девиц, коротко, почти налысо подстриженная, в ярко-желтой кофтенке с глубоким вырезом, отчего казалась похожей на цыпушку.
— А на дороге работать не страшно?! — перебивала ее другая, растрепанная, совсем еще молоденькая, с растекшейся тушью под глазами, и взмахивала сразу обеими руками, будто собиралась взлететь. — Там совсем чернуха! Выкинут на обочину — и привет родне! Здесь остаемся! И не крути носом — не королева!
— Ага, королева. И царица еще. Ветошь мы, вот кто! Давай еще за Зинку выпьем, чтоб ей земля пухом… Да куда ты тянешься, клуша, не чокаются на поминках…
Девицы выпили и принялись закусывать пельменями, доставая их из большой железной чашки. Арлекино, не оборачиваясь, по-прежнему стоял у окна.
— Арлекино, — окликнула его молоденькая девица, — ты чего там припух? Садись за стол, выпей с нами. Бухла купили, хоть залейся, не жалко. Ты бы развеселил нас, а то совсем стремно.
— Точно! Давай, Арлекино, расскажи чего-нибудь, про красивую жизнь расскажи. Не про нашу, а чтоб красиво! Как в кино!
И вдруг они обе замолчали, притихли, будто израсходовали все слова, какие знали. Арлекино отшагнул от окна, повернулся к девицам, и голос его, когда заговорил, изменился. Не было в нем обычной торопливой скороговорки, и звучал он размеренно, так, что каждое слово слышалось отдельно и четко:
— Всех жалко… И Зиночку жалко, и вас жалко… А веселить… Сил у меня сегодня нет, чтобы веселить вас, красавицы… Давайте лучше стихи почитаю, хорошие стихи… В кино их не услышите… Они про другую жизнь, про человеческую… Поэт у нас был в Сибирске, Алексей Богатырев, не знаю, живой теперь или нет… Вот, послушайте…
А
потом бомбардировать маки.Девицы, широко раскрыв глаза, смотрели на Арлекино, словно увидели его впервые. Богатырев вскинулся на матрасе и сел, привалившись спиной к стене, но никто на него даже не посмотрел. А сильный, глубокий голос продолжал наполнять узкую щель квартирки и будто убирал всю ее убогость и неприбранность:
Долго стояла в квартирке тишина. А после разломилась от крика:
— Да бл…дская эта жизнь! На хрена нужна! Мне никто никогда цветочка, даже паршивенького! — рыдала девица, похожая на желтую цыпушку, шлепала растопыренной ладошкой по столу, и разнокалиберные рюмки подскакивали.
Никто девицу не успокаивал и не уговаривал. Она сама затихла, затем вскочила из-за стола и дернула свою подругу за плечо:
— Все, кончай поминки! Пошли! Арлекино, дверь за нами закрой.
На Богатырева, сидевшего на матрасе, девицы даже внимания не обратили, как не обращают внимания на чужую мебель. Вышли, пошатываясь, дверь за ними захлопнулась. Арлекино, вернувшись, присел за стол и сгорбился. Богатырев поднялся с матраса и тоже подошел к столу, сел на табуретку, спросил:
— Чего случилось-то?
Арлекино смотрел на него неподвижным взглядом и думал о чем-то своем. Молчал. Когда Богатырев спросил во второй раз, он, словно очнувшись, протянул руку к бутылке, долго, прицеливаясь, наливал водку в рюмку, а когда налил, также долго смотрел на нее, будто любовался, прежде чем выпить, и лишь после этого, подцепив на вилку давно остывший пельмень, заговорил:
— Случилось. Зиночку убили, у которой ты ночевал. Кто убил — неизвестно, клиенты же паспорта не предъявляют. Милиция приехала, покрутились, поспрашивали, протоколы заставили подписать и канули. Больше уж не появятся — кому убийство проститутки интересно? Затрется, замылится и позабудется. Была Зиночка — и нету Зиночки. Ты ешь, а то они совсем остыли. Пей, если хочешь. — Арлекино наклонился и достал из-под стола целую, непочатую бутылку. Поставил ее, сдвинув чашку с пельменями, и продолжил: — Вот какое совпадение получилось: у дочки моей день рождения, и в этот же день Зиночку убили. И вот я думаю: считаем, что в мире живем, а на самом деле — война. Только без пушек и без танков. Все против всех воюют, скоро на кладбищах места не останется. Люди с ума сходят, хотя сумасшедшими никто себя не считает. Жизнь — копейка, а копейка — это жизнь. Я ведь почему здесь оказался? Из-за копейки. Дочка была — свет в окошке. Бантики, платьица, голосок звенит — души в ней не чаял. Школу с золотой медалью закончила, в институт поступила, у меня от гордости иной раз даже дыханье перехватывало. А тут эта перетряска… Бизнесом решила заняться, компьютерами торговать. И пошло дело на первых порах — деньги повалили дурные, а после — хрясь! — через колено. Чего-то не заладилось, я толком и не знаю до сих пор, в общем, долги большие. Кредит взяла в банке, а отдавать нечем. А банк благотворительностью не занимается и долг этот ленинским бандитам передал, чтобы они его выбили. Ни кола, ни двора не осталось, а дочка с отчаяния с восьмого этажа… Жена после похорон только месяц протянула, а я вот живучий оказался… До сих пор телепаюсь. Спрашивал ты почему я тебе в прошлый раз помог? А ленинским хотел досадить, хоть краешком… Эх! И духом слаб, и телом негоден! Одним словом — Арлекино. На самом дне живу и привыкать начинаю, да чего уж там — привык. Девчонки-то в Зиночкину квартиру вселились, участковый наш даже прописал их, так что телесный бизнес не пропадет, а я при этом бизнесе стану дальше обретаться. Слушай, а зачем я тебе все это рассказываю?