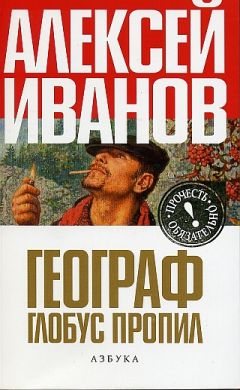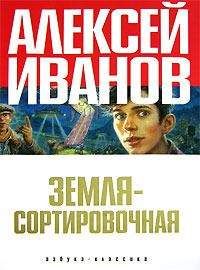Алексей Иванов - Географ глобус пропил
«Оживает», — думаю я. Я отогреваюсь и сажусь на скамейку.
— Иди на колени, — приказываю я.
Маша устало усаживается ко мне на колени боком, пьет брагу и опускает голову мне на плечо. Я тоже пью брагу и курю, выдыхая в сторону. Я тоже устал. Просто скотски устал. За окном совсем темно. По крыше пекарни ходит дождь. Пекарня загадочно освещена рубиновыми червями, ползающими в черной пещере печки. Кажется, Маша дремлет. Мои руки, сцепленные на изгибе ее талии, ощущают тихое, спокойное, ровное движение ребер. Я тоже закрываю глаза. Полусон громоотводом разряжает напряжение воли, словно распускает натянутые вожжи.
Я просыпаюсь от того, что Машина ладошка невесомо едет по моей скуле, по груди, по животу.
— Не надо, Маша, — говорю я.
— Дайте мне баночку, — помолчав, отвечает она.
Маша делает несколько глотков, переводит дух и снова пьет. Я отнимаю банку и убираю под скамью. От Машиных губ пьяняще, вольно, счастливо и по-весеннему пахнет брагой.
— Виктор Сергеевич, я люблю вас…— шепчет мне в лицо Маша.
Ее руки легкие, как листопад, — не поймаешь ладонь.
— Ты еще девочка, Маша…— как дурак, говорю я.
— Ну и что… Я люблю вас… Я люблю вас…— повторяет она.
Она сползает с моих коленей, ложится спиной на скамью и тянет меня к себе. Я подчиняюсь и ложусь рядом, подсунув руку ей под голову. Я хочу Машу. И Маша хочет меня.
Я хочу Машу. И мне ничего не мешает взять ее. И я представляю все, что может быть — все молнии, танец и медовый ливень. Но одновременно я помню, как Маша плыла в ледяной воде злой речонки, как плакала, стоя на четвереньках посреди залитого дождем луга, как садилась в грязь на обочине таежного проселка. И во мне нет страсти. Страсть отгорела там, в затопленном ночном лесу. Осталось только желание. Оно нежное, тихое, неподвижное, как березовая ветка в безветренную погоду. Я не возьму Машу не потому, что мое чувство к ней — это умиление взрослого ребенком, или робость мужчины с девочкой, или трепет грешника перед ангелом. Нет. Я не возьму Машу по какой-то другой причине, которая мне и самому не понятна. Я просто знаю, что так надо. Я хочу Машу. Но я ее не нарушу.
— Я вас люблю…— шепчет Маша, прижимаясь ко мне.
— Не спеши, — говорю я. — Я все сделаю сам…
Кончиками пальцев я веду по линиям ее лица — по стрелкам бровей, по опущенным полумесяцам век, по излучине мягких губ, ни разу мною не целованных. Маша в последний раз приоткрывает глаза и, наконец, закрывает — словно заходит солнце.
— Я люблю вас… Я люблю вас… Я люблю вас…— словно заколдованная, сквозь сон повторяет Маша.
— Я тоже тебя люблю…— говорю я. — Засыпай… Все хорошо.
Какой-то миг — и Маша уже спит. Я держу ее голову и долго боюсь пошевелиться, глядя на Машино лицо — печальное, усталое, прекрасное русское лицо. Потом я тихонько высвобождаюсь, сажусь на скамейке и сгибаюсь пополам, как от удара под дых. Дикая душевная боль от того, что я удавил свое желание, рвет меня на куски.
Но после я встаю и щупаю одежду. Она почти высохла. Я одеваюсь. Затем осторожно, как куклу, одеваю голую Машу. Наконец, зажигаю сигарету, беру банку с брагой и открываю дверь.
Дождь кончился.
И вот я, Географ, Виктор Сергеевич, бивень, лавина, дорогой и любимый, сижу на пороге пекарни и смотрю на спящую деревню Межень. Я курю. Я пью брагу. Дождя нет, луны нет, но темное, густое небо в зените словно подсвечено каким-то тусклым туманом. Я вижу тяжелые, дымные облачные бугры. А по горизонту, над тайгой, небо охвачено полосой угрюмой тьмы. Расползаясь по склону, слабо громоздится деревня Межень. Чуть светлеют покатые крыши, да кое-где горят огоньки. В ночи шумит на невидимых камнях Ледяная, одиноко брешет вдали собака — то ли облаивая свои собачьи кошмары, то ли откопав в огороде мышь, — и беззвучно, просторно гудит тайга, словно жалуется, переполнившись дождем.
Маша спит. Я думаю о Маше, сидя на пороге пекарни. Теперь Маша уже никогда не будет моею. Теперь моя радость уж точно позади. Но я спокоен, потому что выбора мне никто не навязывал — ни люди, ни судьба, ни сама Маша. И пускай скоро Маша, ничего не поняв, отвернется от меня и уйдет в свою свежую, дивную и прекрасную жизнь. Что ж, у нее — первая любовь, которая никогда не бывает последней. А я Машу все равно уже не потеряю. Потерять можно только то, что имеешь. Что имеем — не храним… А я Машу не взял. И Маша останется со мною, как свет Полярной звезды, луч которой будет светить Земле еще долго-долго, даже если звезда погаснет.
И еще я не взял Машу потому, что тогда все мое добро оказалось бы просто свинством. А я его делаю немного и очень им дорожу. Оказалось бы, что я вылавливал Машу в злой речонке, утешал на лугу, тащил по проселку и даже, хе-хе, кровь проливал не потому, что боялся за нее, как человек на земле должен бояться за человека, не потому, что я ее люблю, а потому, что меня взвинчивала похоть. А настоящее добро бесплатное. И теперь у меня есть этот козырь, этот факт, этот поступок. Что бы я ни делал, как бы мне ни было худо, чего бы про меня ни сказали — и алкаш, и дурак, и неудачник, — у меня всегда будет возможность на этот факт опереться. И я не уверен, что в нашей дурацкой жизни Маша бы послужила мне более надежной опорой, чем этот факт.
И я вспоминаю весь наш поход — от самой Перми-второй до деревни Межень. И сейчас, здесь, глубокой ночью на пороге пекарни, неясный смысл нашего похода становится мне вроде бы ясен. Мы проплыли по этим рекам — от Семичеловечьей до Рассохи — как сквозь судьбу этой земли — от древних капищ до концлагерей. Я лично проплыл по этим рекам как сквозь свою любовь — от мелкой зависти в темной палатке до вечного покоя на пороге пекарни. И я чувствую, что я не просто плоть от плоти этой земли. Я — малое, но точное ее подобие. Я повторяю ее смысл всеми извилинами своей судьбы, своей любви, своей души. Я думал, что я устроил этот поход из своей любви к Маше. А оказалось, что я устроил его просто из любви. И может, именно любви я и хотел научить отцов — хотя я ничему не хотел учить. Любви к земле, потому что легко любить курорт, а дикое половодье, майские снегопады и речные буреломы любить трудно. Любви к людям, потому что легко любить литературу, а тех, кого ты встречаешь на обоих берегах реки, любить трудно. Любви к человеку, потому что легко любить херувима, а Географа, бивня, лавину, любить трудно. Я не знаю, что у меня получилось. Во всяком случае, я как мог старался, чтобы отцы стали сильнее и добрее не унижаясь и не унижая.
И я все сделал неправильно. Ни как учитель, ни как руководитель похода, ни как друг, ни как мужчина. Овечкина опрокинул, отцов бросил, Машу обманул. Я даже проломил свой главный принцип: я стал залогом счастья для Маши и сделал ее залогом счастья для себя. Маша, Маша, Маша… Дома друзья-приятели охнут: ну и лопух же ты, девку прошляпил! А подружки сморщатся: как не стыдно, пристал к девочке, малолетке, собственной ученице… Но если в душе моей сейчас такой великий покой, значит, я все-таки был прав… А кто меня поймет? Кто оценит эту правду? Никто. Разве что время… Будущее. Только вот у него ничего не вызнаешь.