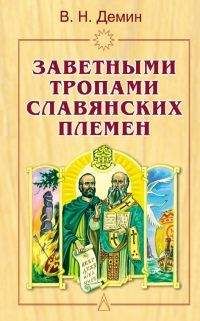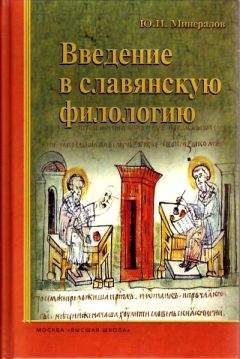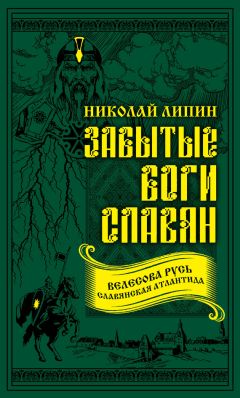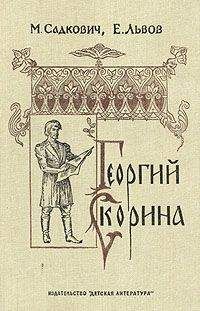Ладислав Баллек - Помощник. Книга о Паланке
Она. Посмей только пикнуть!
Он. Ты совсем ума лишилась. Даже подумать страшно, что вы творите у меня за спиной, на какие спекуляции пускаетесь. Хорошо, что я не все знаю, а то пришлось бы лезть в петлю.
Она. Вот это было бы совсем неплохо, балбес тупоумный! Еще раз говорю, не лезь к Воленту с запрещениями, а то я с тобой такое сделаю, до смерти помнить будешь! И он еще позволяет себе приказывать?! Да только пикни! Ты же должен ему ноги целовать, столько он за тебя наработал! Только пикни, я тебе покажу, да собственная твоя дочь тебе скажет, чтобы ты закрыл дверь с другой стороны! Дурачина безмозглый! Ох уж и осточертел ты мне, балбес! Пустое место! И он будет еще грозить?! Ноль без палочки! Дубина стоеросовая! Разинь только рот! Да я вот этим утюгом размозжу твою пустую башку!
Крик душил его, растерянными глазами он искал что-то на мойке, что-то увесистое, но сразу же остановился.
Она. Надеешься прогнать Волента, как Палё, которого из-за тебя убили?! Ревнивец гнусный! Боялся, что он станет лучшим мастером, чем ты? Ревнивец! Тебя злило, что дочь видела только его? А здесь решил изображать из себя кроткую душу: мухи, мол не обидит? Но ты и здесь уже проявил себя, показал, кто ты есть, меня ведь не обманешь, не надейся… Тебя совесть мучит, что — нет? Но этот не Палё, этот с первых же дней был выше тебя на две головы, хотя здесь никому из нас ты в подметки не годишься. Здесь ты уже никому не ровня. Но того мальчика ты погубил, зверюга! Дочь тебе все когда-нибудь припомнит, ведь она ждет его, надеется, бедняжка, что он вернется. Только посмей слово сказать против Волента! Его мы с Эвой защитим от тебя, знай!
Он открыл рот, инстинктивно повернулся к приемнику и включил его. Но не успели лампы загореться, жена быстро наклонилась над ним и выключила приемник, крикнув: «Ты меня слушай!»
Он заметил, что она выключила приемник, и снова протянул к нему руку. И снова увидел, как протянулась ее мясистая рука. Огонек погас. Тогда он энергично, сердито повернул ручку, так что чуть не сломал.
Она. Мать твою!..
Он услышал ее дикий выкрик и хотел обернуться, но в этот миг она изо всей силы хлопнула его ладонью по затылку.
Когда мать с дочерью вернулись, отца дома не было. Речанова, не входя в дом, велела дочери посмотреть, готов ли обед, а сама пошла в сад, якобы погулять. Дочь вернулась и сказала ей то, что узнала от служанки:
— Мама, а отец куда-то ушел. Говорит, он, мол, был пьяный… или еще что, но шел по стенке…
— Значит, ему плохо стало, — ответила ей мать хладнокровно. — Волентко проворонил какую-то хорошую сделку и машину запорол. Думаю, он к врачу отправился — сердце, видать, забарахлило. Пошли домой, обедать пора.
— К какому же врачу он пошел? — вдруг заволновалась дочь.
Мать удивилась, считая, что дочь вообще не интересуется отцом.
— Ну, скорей всего, к этому… к Хоранскому, что на нашей улице, он ведь принимает весь день…
— Ты думаешь, сердце?
— Скорей всего, он уже давно на него жалуется. Как-то ему даже дурно стало, слабость появилась.
Они вошли в дом, и дочь заметила, что мать все время посматривает в окно, вроде дожидается отца с беспокойством.
Дочь. Значит, сердце?
Мать. Чего? Ну конечно.
Дочь. Может, тебе за ним сходить?
— Ты что? — удивилась мать. — Ты сама-то на него внимания не обращаешь, не взглянешь, слова ему не скажешь, с чего же сейчас вдруг такая жалость?
Дочь. А разве тебе-то все равно, что с ним?
Мать. А он разве заботится о тебе? Разве о нас заботится?
Дочь. Мама, с сердцем шутки плохи.
Мать. Плохи, это я знаю, но с ним самим у меня проблем еще больше, он упрямый как баран.
Дочь. Мама, вы что, с ним схлестнулись? Ты опять ему нагрубила?
Мать. Да нет… Ну с чего ты взяла! Заботься-ка лучше о своих делах.
Дочь испытующе и как-то враждебно посмотрела на нее.
— Ты чего? — вскинулась мать.
Дочь. Уж не узнал ли он случайно, что ты у нас немножко ветреная?
Ошеломленная мамаша завертела головой: что это, мол, позволяет себе дочь по отношению к ней, подошла к окну и увидела, что идет Волент. У нее отлегло от сердца. Значит, муж у него не был, а этого она боялась больше всего. Теперь у нее оставалось только одно опасение — как бы он не пошел сам донести на себя… В это она не очень-то верила. Но решила на всякий случай сговориться с Волентом, что мастер, мол, не в порядке, и служанка в случае чего это может подтвердить (слава богу, что она видела его). Речанова быстро переоделась к обеду и пошла открыть Воленту парадный вход: она хотела принять его, как уважаемого гостя.
Ланчарич пришел разодетый, причесанный, в светлых брюках, в кремовой рубашке и бордовом галстуке — франт хоть куда! И Речанова, сердечно и многозначительно приветствуя его, не могла не признать, что он действительно видный мужик, что правда, то правда. Она внимательно оглядела его, и он с радостью отметил это. Она провела его в гостиную, налила ему выпить, посадила в кресло и весело и кокетливо выпорхнула из комнаты.
Он молодцевато и самоуверенно закинул ногу на ногу, закурил и, медленно потягивая вино, вдыхал дым сигареты.
Такого ему даже во сне не снилось! Теперь он мог быть спокойным и уже точно знал, что достигнет всего, о чем мечтал. Значит, инстинкт не обманывал его.
За чистыми стеклами в высоких белых окнах легонько шевелились ветви деревьев. Листва уже желтела, краснела, но пока еще не опадала. В саду было еще достаточно зелени, она блестела на солнце, как выглаженная.
Он думал о полном теле Речановой. Им овладело такое волнение, что он невольно схватился за живот, потом за щиколотку согнутой ноги, потом уставился на рояль. На нем стоял массивный бронзовый подсвечник, такой же стоял на камине. Мебель в гостиной была черная, старинная, может быть и очень ценная, но в этом он не разбирался. Обои светились в полумраке золотисто-бордовым цветом. Над богатой мебелью, черно-белой обивкой кресел и дивана словно витало что-то ядовитое, какое-то зло. И невольно думалось, что человек, который живет в таких вот комнатах, обязательно должен зазнаться и полюбить грех. На прелестном резном шкафчике тикали дорогие часы. Столбики, на которых они были укреплены, подпирали два ангелочка, усталые, скучающие; им, может быть, хотелось зевнуть, но они не могли отпустить столбики. Он просто чувствовал, как им надоело стоять.
Он смотрел на высокую белую дверь с позолоченной ручкой, за которой исчезла та женщина, что лишила его сна. Чтобы думать о чем-то другом, он стал разглядывать комнатные цветы, которые, очевидно, чувствовали себя здесь хорошо. Рассмотрел и картины. Из позолоченных рам на него смотрели наглые незнакомые лица. Пейзажи были красочные, старинные, каких уже никто не помнит.
Он чувствовал, как в него закрадывается неуверенность. Ему пришло в голову, что уж лучше бы он остался на сверхсрочной, так он затосковал по жестокости.
В горках и широком серванте сияло дорогое стекло, холодное, шлифованное, способное своей спесью возбудить в человеке просто ненависть.
Что-то вдруг заставило его подумать о голых досках и земле.
Когда-нибудь всему придет конец. И все, что сейчас он видит вокруг себя, будет ему ни к чему. И тогда, уходя в вечную ночь, он, наверное, и сам не будет знать, какого черта он жаждал всего этого. Но до конца еще далеко, далеко до времени, когда он начнет желать простых слов, но найдутся ли такие слова и для него? Неудавшаяся жизнь тяжела, но чему быть, того не миновать. И человек тщетно мечтает жить в облаках.
Зеленоватый свет падал из окон на большой стол с шестью стульями с высокими, обитыми кожей спинками.
Когда Речанова с дочерью и Волентом сели обедать, мастера еще не было. Служанка прикатила допотопный столик для сервировки, впрочем достаточно вместительный, чтобы на нем встало все, что нужно. Она налила в граненые рюмочки черешневой настойки, разлила суп и разрезала двух жареных уток — запах их разнесся по всему дому. Когда Волент уже чокнулся с женщинами, он вдруг осознал, что здесь нет мастера. И его просто потрясло, что он и думать забыл о ночном происшествии, будто полностью с ним рассчитался, рассказав о нем жене мастера и доложив, что машина в порядке и что военные фонари на всякий случай с нее сняты. На вопрос, где же мастер, Речанова ответила, что он пошел погулять: ему, мол, стало не по себе, и он, скорее всего, зашел к врачу.
Служанка в чистом белом передничке ответила на шутку Волента и ушла. Казалось, все в порядке, вот только хозяйская дочь как-то косится на него и на мать, что он заметил не сразу, отвлеченный сказочными запахами обеденных блюд.
Эва-младшая бросала взгляды на пустой стул, и ее беспокоило недоброе предчувствие. Она жила своими мечтами, ни о чем не заботясь, отца, действительно, просто не замечала, не могла простить ему своего парня, но почему-то вид пустого отцовского стула сейчас чрезвычайно ее обеспокоил. Она почувствовала жалость к отцу. О своих родителях она обычно не думала, ничто к этому ее не побуждало, но с тех пор, как у нее появилось неприязненное чувство к матери, она как-то естественно начала чаще и добрее вспоминать об отце, хоть он так жестоко и провинился перед ней. Теперь он уже не был ей столь безразличен, ей даже хотелось помириться с ним. Может, потому, что печаль перестала быть такой жестокой, теперь она была влюблена в Куки, и все ее думы были только о нем, да и злость на отца уже выдохлась. Заигрывание матери с Ланчаричем, которого Эва с самого начала терпеть не могла, раздражало ее чрезвычайно. И какой-то инстинкт подсказывал ей — они затевают что-то против отца.