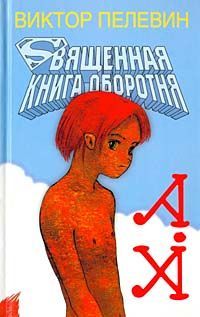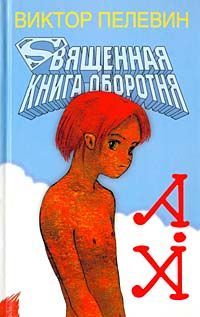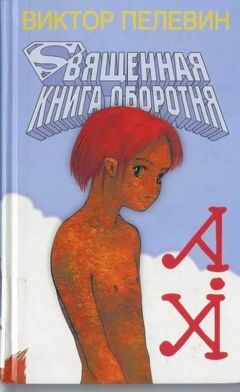Артур Соломонов - Театральная история
Он посмотрел на собравшихся с яростью.
Фома подошел к отцу Никодиму, театрально всплеснул руками и закатил глаза, но это не произвело никакого впечатления на батюшку. Он разглядывал ранку Сергея и что-то шептал. Псаломщик не разобрал, что именно, и с возмущением сказал намеренно громко:
– Актерам в храме не место!
– А ты знаешь, как на старославянском называется сцена? – вдруг тихо спросил его отец Никодим.
– Не знаю, – ответил Фома и добавил взглядом: и знать не желаю.
– Она называется позорище.
– И очень правильно, – кивнул головой Фома, пристально вглядываясь в отца Никодима. Он понял, что его старший по сану коллега имел в виду нечто совсем иное, но что? «И знать не желаю!» – снова подумал Фома, глядя на балабановский балаган.
Пьяный артист вынул из кармана затертый листок с полинявшими, написанными от руки строками. И все поняли: он не врал, стих был сотворен задолго до кончины Преображенского. Артист стал декламировать, делая в конце каждого четверостишия широкий жест правой рукой:
Обожгла сначала глотку,
Пролетела вниз.
Выпив самопальной водки,
Умирал артист.
Он один лежал в гримерной,
Не закончив роль.
Не дождавшись нашей «скорой»
Умирал «король».
Что врачи напишут? – «Сердце…»
Или: «Был инсульт».
Кто же скажет: «Водка с перцем
Выключила пульт».
В небольшом театре нашем
Не доигран «Лир».
За столом – актеры-братья:
Поминальный пир.
Балабанов перевел дыхание, утер слезу, и продолжил дрожащим голосом:
Помянут хорошим словом,
Режиссер всплакнет.
Доиграет кто-то новый,
Если не запьет.
– Ох! – вздохнул Балабанов, вытер пот со лба и обратился к Сергею: – Прощай, милый мой друг! Я тебе завидовал! Я тебя не любил! Но чтобы вот так, вот так на тебя смотреть – душа моя разрывается! – И закричал: – На мелкие части расколота теперь душа моя! О люди! Порожденья…
И он снова зарыдал – громко, протяжно, с горестными руладами.
Ипполита Карловича позабавили и стих, и сам Балабанов. «Недоолигарх» мелко, прерывисто посмеивался. Усиленно моргал. Вытер едва заметную слезу ладонью.
– Красавец. Премию ему! Премию! Где он был? Талант! Затирал тебя Сильвестр. А ты славный! Все переменится теперь. Для тебя. Обещаю.
Балабанов вдруг как-то сник, подошел к гробу и погладил Преображенского по волнистым волосам. И тихо отошел в сторону, прошептав кому-то: «Он такой холодный».
Отец Никодим побледнел. Фома возмущенно зашептал в Никодимово ухо:
– Прекратите это кощунство! Отец Никодим!
– Сильвестр Андреевич, – тускло, безучастно обратился священник к режиссеру. – Вы остановите этот балаган? Или мне придется его прекратить? Вы не у себя дома. Вы в доме Божьем.
– Имейте уважение к усопшему, раз нас не уважаете! – взвизгнул Фома.
– Вы помните Бродского? – обратился Сильвестр к толпе.
Какой-то старик утвердительно кивнул.
– В каком смысле? Вы помните самого Бродского? – старик замер. – А его дедушку?
– Отец Никодим сейчас позовет охрану! – возопил псаломщик.
– Какую охрану, Фома? – тихо спросил отец Никодим.
– А я говорил – нам всем нужна охрана! Всем, – злобно прошептал псаломщик.
– Так вот, у Бродского написано: «Входит некто православный, говорит – теперь я главный». Какая все-таки неистребимая воля к власти у этих профессионально верующих. Что бы сказал об этом Бог, распятиями которого они себя украшают? Мне страшно представить это, отец Никодим. Вам, как вы говорите, порой бывает так трогательно страшно за меня, когда вы думаете, в каком затруднительном положении я окажусь на Страшном суде… Честно говоря, я-то думаю, что мы будем сидеть на одной скамье подсудимых. А скорее всего, вас отправят куда поглубже. И пожарче.
Вдова Сергея вдруг подошла к Сильвестру и залепетала:
– Сильвестр Андреевич, вы видите, как они плохо его загримировали, почему вы не проследили, вы всегда следили за гримом, а тут в последний раз вы тоже его бросили, тоже бросили и в последний раз, и как все, как все…
Сильвестр обнял Елену, и она затихла. Он снял руку с ее плеча, и она отошла на два шага, потом сделала еще один. Замерла, слушая Сильвестра.
– Сегодня рано утром я пришел в театр. И почувствовал, как опустел он без Сергея. Везде: в гримерных, на сцене, в зале, в фойе – его страшно нет.
Сильвестр замолчал. Все ждали его слов, и он продолжил.
– Я не знаю глубинных миросозерцаний Преображенского. Я не знаю, как он думал о бессмертии. Возможно, он желал в него верить. Но я полагаю, что ему было сложно, почти невозможно представить, что столь богатая натура вдруг, в одно мгновение перестанет быть. Я почти уверен, что Сергей понимал: загробной жизни не будет. По крайне мере для него.
– Отец Никоди-и-м! – простонал псаломщик. – Отец Никодим, это нонсенс!
Священник ласково поглядел на псаломщика.
– Тебе не идет это слово, Фома.
– Да не об этом же речь! – обиделся тот. – И вообще, что вы сказать хотите? Что мне рассуждать надо только про то, как пол в церкви подметать?
Отец Никодим потерял к Фоме интерес и обратил взор на проповедующего режиссера. Священника одолевали противоречивые чувства. На его месте стоял Сильвестр. И вместе с протестом отец Никодим испытывал жгучий интерес к происходящему.
– Вы знаете, как ненавистен мне пафос, – продолжил режиссер. – Но сейчас, когда я стою над гробом лучшего актера, с которым мне доводилось работать, для меня нет ничего естественней пафоса. Сергей принадлежал к тому великолепному актерскому племени, которое верит только в сегодня. Только в тело. Только в чувства. Сергей как великий артист смеялся над завтрашним днем. Он как никто чувствовал, что завтра – это мираж. Потому, когда предыдущий оратор говорил о вечности, мне это показалось не только потешным. Это кощунственно именно по отношению к Преображенскому. Господа! Какое бессмертие! Он жил, как бессмертный. Нет ничего более чуждого вечности, чем театр. И я попросил бы господ клерикалов так буйно не фантазировать о человеке, который уже не может им ответить. Остановите свое воображение, отец Никодим. Вы оскорбляете память того, о ком сочиняете свои возвышенные проповеди. Мы не верим вам. А вот если бы врач исцелился! Тогда бы я ему поверил!
Сильвестр изредка посматривал на отца Никодима. Видел, что тот необычайно взволнован. Он ощутил в священнике, как говорил его педагог в театральном училище, «духовную расщелину». Именно туда Сильвестр и старался обратить свои слова, усиливая кризис, увеличивая раскол.
– Преображенскому был свойствен безграничный страх смерти. Однажды я это понял. Этот страх подарил нам великолепного артиста. Конечно, не каждый, кто боится смерти, сможет стать артистом высочайшего класса. Но каждый, кто, как Сергей, поймет, что ежесекундно умирает, сможет на сцене жизни провожать ускользающие мгновенья с тем артистизмом, который отпустила ему природа. А Сергею природа дала океан артистизма. А потому, отдавая каждую секунду смерти, он был великолепен. Я бы хотел, чтобы все мы помнили о том непрекращающемся торжестве, каким была его жизнь в искусстве. Он торжествовал – здесь и сейчас, с нами и для нас. Я бы хотел, чтобы мы помнили об этом, а не о его служении или, – Сильвестр не смог сдержать язвительной улыбки, – о том, как Сергей мечтал прорваться к первоязыку… Я сказал, что Преображенский верил в тело. Не поймите меня превратно. Он верил в тело, если так можно сказать, до краев наполненное душой. Даже когда он поворачивался к залу спиной, его боль чувствовали все – до последнего ряда.
Отец Никодим с некоторой даже ревностью подумал: «А я о чем только что говорил? Разве не о том, что в людях одаренных себя проявляет Бог? Что они напоминают нам, что мы окружены вечностью?»
Сильвестр, словно отвечая на обиду священника, сказал:
– Предыдущий оратор и я – мы оба занимаемся невидимым. Только он в него просто верит, я же им занимаюсь профессионально. Я даю невидимому шанс, пусть на время, стать явным. Душа, любовь, тончайшие оттенки чувств, религиозные переживания – все это благодаря моим усилиям может пробиться к свету. Обрести на время плоть и голос. На сцене Сергей давал шанс явиться невидимому. Никто лучше него не мог этого сделать.
Отец Никодим заволновался. Очевидно, желал что-то возразить.
– Не надо, отец Никодим, со своим уставом пытаться проникнуть в наш монастырь, – бесстрастно остановил его порыв Сильвестр. – Мы не имеем никакого отношения к тому, что вы сейчас воспевали… А теперь – обещанное разоблачение. Я клянусь, что буду преследовать того, кто виновен в гибели моего лучшего артиста. Я буду преследовать Ипполита Карловича. И того, кто виновен в его смерти косвенно. Отца Никодима.
Ипполит Карлович смотрел на Сильвестра и улыбался. Лимонный сок вместе с мякотью тонкой струйкой стекал с его губ.