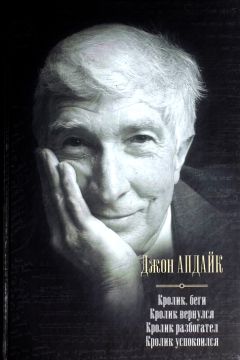Джон Апдайк - Кролик вернулся
В самом деле? Что же он хотел объяснить? Что он в этом не виноват. Однако Нельсон считает, что виноват. В том, что приютил Джилл? Но ей же негде было жить. В том, что трахал ее? Но ведь это жизнь, где есть секс, огонь, дыхание, все в комбинации с кислородом, мы тлеем каждую минуту нашей жизни на грани возгорания, как о том свидетельствуют оранжевые окна психиатрической больницы. Кролик пытается вспомнить.
— Вы спросили меня про Ушлого, почему я так уверен, что это не он поджег дом.
— Да. Почему вы так уверены?
— Он любил Джилл. Мы все любили.
— И все использовали ее?
— В известном смысле.
— В вашем случае, — странная манера все расставлять по своим местам, и вообще она говорит как женщина — член клуба, выступающая на собрании перед камерами, гласные звучат хрипловато из-за сигарет и виски, коктейлей при дневном ярком свете, — в качестве наложницы?
Он не знал этого слова, но догадался о его значении.
— Я никогда ее не заставлял, — сказал он. — Я давал ей дом и еду. Она давала мне себя. Каждый давал то, что у него было.
— Вы животное. — Произнесено слишком отчетливо: фраза давно сидела в ее мозгу, не успела скукожиться и звучала теперь не вполне уместно.
— Да, конечно, — согласился он, не давая ей взлететь, не давая этой ярости-фламинго с криком сорваться с ее лица.
Безликий человек позади нее кашлянул и переступил с ноги на ногу, с готовностью изображая смущение. Гарри почувствовал, как внутри у него все делается прозрачным, невесомым, словно перед началом матча. Он состязался с этой женщиной так, как никогда не состязался с Джилл. Джилл для него была слишком мудрой, слишком старой, хотя и родилась много позже. А эта шавка с пегими волосами, толстым кошельком и хриплым голосом женщины, посещающей клубы, была одного с ним поколения, он мог понять, чего она хочет. Она хотела держаться подальше от беды. Хотела получать удовольствие от жизни и чтобы никто ни в чем ее не винил. И наконец, не хотела оправдываться ни перед какой небесной комиссией. В данный момент она хотела утихомирить ненасытное чудище — образ дочери, которую она выбросила из своей жизни на погибель. Миссис Олдридж жестом юной девушки приложила руки к щекам, затем снова свесила их вдоль бедер.
— Извините, — сказала она. — Всегда ведь бывают… разные обстоятельства. Я хотела знать, остались ли… какие-нибудь вещи.
— Вещи?
Кролик снова мысленно увидел почерневшие кости, остатки зубов, расплавленные браслеты. Ему вспомнились браслеты, которые носили девочки в школе, цепочки и пластинки с именами Дорин, Маргарет, Мэри-Энн.
— Ее братья просили меня… какие-нибудь личные вещи, на память…
Братья? Джилл говорила о них. Трое. Один — возраста Нельсона.
Миссис Олдридж поспешила сказать несколько смущенно, пытаясь напомнить:
— У нее была машина.
— Они продали машину, — произнес Кролик излишне громко. — Джилл ездила на ней без масла, так что мотор заклинило, и она продала машину на слом.
То, что он произнес это так громко, встревожило миссис Олдридж. А он просто все еще возмущался небрежным отношением к такой машине. Отступив на шаг, миссис Олдридж протестующе заявила:
— Она любила эту машину.
Не любила она машину, она не любила ничего, что могли бы любить мы, хотелось Кролику сказать миссис Олдридж, но она, наверное, все знала получше него: ведь она присутствовала при том, когда Джилл впервые увидела машину, новенькую, белоснежную, подарок отца. Кролик наконец выудил из памяти одну «личную вещь».
— Одну вещь я обнаружил, — сказал он миссис Олдридж, — ее гитару. Она довольно сильно обожжена, но…
— Ее гитару, — повторила женщина и, возможно, забыв, что ее дочь играла, опустила вниз глаза, круглое лицо ее покраснело, и стоявший позади мужчина кинулся ее утешать, мужчина, безликий как на рекламе, в безупречно сшитом пиджаке с бордовым сложенным платочком в нагрудном кармане. — У меня же нет ничего, — рыдала женщина, — она не оставила мне даже записки, когда ушла.
Голос ее утратил сексуальную хрипотцу, стал высоким и зазвучал беспомощно, это снова была Джилл, молившая: «Обними меня, помоги мне, я полна дерьма, все рушится».
Гарри отвернулся, чтобы не видеть миссис Олдридж. Шеф, выпроваживавший его через боковую дверь, заметил:
— Богатая сука, если бы она сумела удержать девчонку дома, она сегодня была бы жива. Я каждую неделю вижу подобное. За все рано или поздно приходится платить. А вы, Энгстром, не нарывайтесь на неприятности и заботьтесь о своих родных. — Он, словно тренер, по-отечески потрепал Гарри по плечу и подтолкнул навстречу широкому миру.
— Пап, как насчет того, чтоб пропустить по быстренькой?
— Не сегодня, Гарри, не сегодня. У нас для тебя сюрприз. Мим приезжает.
— Ты уверен?
Они ждут Мим уже много месяцев, а она только присылает открытки, всякий раз с изображением нового отеля.
— Да-с. Она звонила твоей матери сегодня утром из Нью-Йорка. Я говорил с твоей матерью днем. Мне бы следовало уже сказать тебе об этом, но у тебя столько головной боли, что я подумал: это может и подождать. Вот уж воистину — то пусто, то густо — почему так? Прямо загадка. Мы все больше цепенеем, и Господь Бог дает нам испить чашу до дна — так работает его милосердие. Ты теряешь жену, теряешь дом, теряешь работу. Мим возвращается в тот день, когда твоя мать всю ночь не сомкнула глаз из-за кошмаров, а потом, могу поклясться, весь день провела на ногах и прибиралась — уморить себя, видно, решила, так что можно только гадать, что будет дальше.
Но он уже сказал, что дальше будет смерть мамы. Автобус 16-А подкатывает, покачиваясь, изрыгая выхлопной газ. В направлении Маунт-Джаджа негров едет меньше, чем в направлении Западного Бруэра. Кролик садится у прохода, отец — у окна и вдруг нахохливается и плюет. Плевок слабенькой струйкой стекает вниз по грязному стеклу.
— Черт подери, но меня от этого наизнанку выворачивает, — поясняет он, а Кролик видит, что они как раз проехали церковь, большую серую пресвитерианскую церковь у скрещения Уайзер и Парк-стрит; на ее ступенях стоят группками женщины в пальто, двое молодых людей в свитерах, монахини и школьники с плакатами и незажженными свечами в знак протеста против войны. Сегодня День моратория. — Я никогда не был особым сторонником Ловкача Дика, мне он и по сей день не нравится, — поясняет папа, — но бедняга старается сделать там за океаном хоть что-то пристойное, вытащить нас оттуда, пока нам на голову не рухнула крыша, а эти чокнутые проповедники дальше своего носа ничего не видят, вот и устраивают парады, на радость желтеньким красным — те небось думают, что победа уже у них в кармане. Будь я на месте Никсона, я бы обложил таким налогом этих иисусиков церковных, чтоб впредь им неповадно было, — зато маленькому человеку стало бы намного легче.
— Пап, они говорят лишь то, что хотят приостановить бойню.
— Значит, они и тебя заарканили, да? Бойня — не самое худшее, что происходит. Я уж скорее пожму руку убийце, чем предателю.
Столько страсти, тогда как сам он по этому поводу теперь ничего не чувствует, забавляет Гарри, вызывает сознание своей защищенности, домашнего комфорта. В этом его спасение — он снова дома. Тот же знакомый затхлый запах плюшевого медвежонка от ковра, та же теплая волна навстречу, когда открываешь дверь из погреба, та же узкая лестница, ведущая из гостиной наверх, с той же шаткой балясиной, выскочившей из паза и рассыхающейся, так что ее приходится снова и снова приколачивать; тот же кухонный стол с белой столешницей и четырьмя протертостями в тех местах, где они обычно едят. Кролику захотелось вновь поесть еды своего детства: каши с кусочками банана, посыпанных сахарной пудрой пончиков, — правда, теперь их продают в коробках с целлофановыми окошечками, а не в вощеных пакетах, — сырой морковки и какао по вечерам. Он любит долго поспать, поэтому на работу его приходится будить — в Пенн-Вилласе, в доме, где Дженис так и не удосужилась повесить занавески, его обычно будило солнце, и он просыпался первым. А здесь, в Маунт-Джадже, его окружает знакомый мрак. Искаженное лицо и речь мамы, так огорчавшие Кролика во время его посещений, быстро становятся повседневной реальностью ее присутствия на этом свете все годы, что он отсутствовал; все ту же он видит половинку неба, и та же дверь изолирует его от остального мира, как и громоздкая дверь в погреб, состоящая из двух тяжелых половин. Ребенком он любил сидеть на цементных ступеньках под этой дверью и слушать шум дождя. Шлепанье дождевых капель по крыше, казалось, соответствовало биению его сердца, любовно проникало в сознание и сливалось со стуком и скрипом, какие производила мама, работая на кухне. Она все еще в небольших дозах может там работать. То, что Гарри снова дома, утверждает она, заменяет ей сразу сто доз «Л-допа».