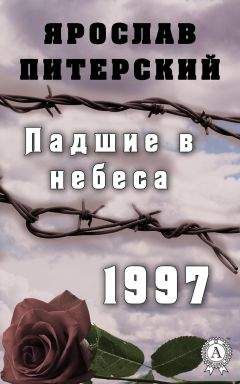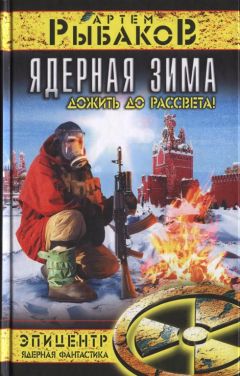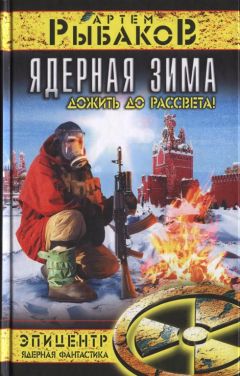Ярослав Питерский - Падшие в небеса
— Богу есть дело до каждого… — прозвучал знакомый голос. Павел очнулся. Он лежал в темноте. Где-то вдалеке поскрипывали нары. И слышался ровное дыхание соседей. Кто-то храпел. Арестанты спали. Глубокая ночь… И опять:
— Есть, есть. Не волнуйся. Ведь ты же подумал о песчинке… Иоиль! Это был определенно он! Павел резко вскочил и застонал. Рана все еще тревожила тело. Мышцы заныли. Где-то внутри резануло как ножом. Павел повалился головой на кровать.
— Это ты? — спросил в пустоту Павел.
— Да, я.
— Но почему я тебя не вижу.
— А зачем? Тебе же нужен не я. А ответ. Ответ на твои мысли. Вопросы ты задаешь, а ответа не находишь…
— Да, действительно. Не нахожу. А они есть, ответы? А? Есть?
— Есть, есть…
— Но почему я их не нахожу?
— Рано. Еще рано. Всему свое время. Если так угодно Господу!
— Хм, но я могу умереть. И все. Тогда вообще никаких ответов не будет? А? — Павел ухмыльнулся.
— Будет. Смерть. Что такое смерть? Умрет — твое тело. Оболочка. А душа?! Как, может умереть душа? Она же не кожа и не мясо. Она не может сгнить.
— И, что? Что тогда?
— Тогда ты и найдешь ответы.
— Нет, а сейчас, сейчас? Почему я не могу найти?
— Ты не обращаешься к Богу. Ты говоришь лишь с собой. Как, Бог, тебе может ответить, если ты, его не спрашиваешь? Повисла пауза. Павел молчал. Он тщетно пытался отыскать глазами в темноте силуэт Иоиля. Но нет — не мог. Зрачки колола тьма.
— Богослов ты здесь? — спросил тихо Павел. — Ты ведь просто сон. Мое видение. Тебя нет! Я просто схожу с ума!
— А зачем тогда ты разговариваешь со мной? — грустно спросил богослов.
— Мне интересно…. Иоиль. Скажи, как я могу поверить в Бога, если вокруг меня происходит столько несправедливости и мерзости? Столько грязи и предательства? А?
— Это твое дело. Но ведь ты и не пробовал это сделать. Ты боишься — это сделать. Как Бог может помочь тебе, если ты его не просишь? Павел вновь задумался. Пауза немного затянулась. Клюфт, вдруг, испугался, что его сон растает — и Иоиль растворится в темноте! Павел, очень хотел, что бы богослов поговорил с ним еще:
— Иоиль. Что мне делать?
— Попроси Бога помочь.
— Как?
— Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня; Цепи ада облегли меня и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его! Повтори это. Проси. Павел сжал кулаки. Он закрыл глаза и почти беззвучно зашевелил губами:
— Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня; Цепи ада облегли меня и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал. И Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его!
Раздался грохот. Павел вздрогнул. Он не просто испугался. Его обуял ужас! Ужас того, что этот сон — вдруг стал реальностью. Но нет. Нет, еще мгновение и все кончилось. Павел открыл глаза. Резкий свет. Три тени нырнули в камеру.
Послышались крики и отборный мат. Тюремщики гремели ключами. Топот кованых сапог и какая-то возня. Клюфт испуганно соскочил с кровати. Он свесил босые ноги — встав ступнями на холодный пол. От сквозняка и холодного камня, пальцы мгновенно замерзли. Трое тюремщиков схватили Спиранского. Старика скинули с кровати и поволокли к выходу. С грохотом упали его костыли. Евгений Николаевич безропотно молчал. Его тащили по полу, словно куль с картошкой. Конвоиры шипели и матерились.
— Сука, тяжелый, отъелся гад на народных харчах!
— Морда буржуйская!
— Мы тебя вылечим собака! Павел, как и остальные обитатели камеры, в оцепенении, наблюдали за этой ужасной картиной. Все произошло быстро. Конвоиры с несчастным Спиранским скрылись в коридоре. Но дверь не захлопнулась. В камеру вошел высокий человек в офицерской форме. Он внимательно окинул взглядом всех арестантов и презрительно сказал:
— Арестованные Клюфт и Пермяков, тоже собирайтесь! С вещами на выход!
Павел метнул взгляд на молодого колхозника. У того затряслись губы от страха — в голубых глазах застыл ужас. Клюфт тяжело вздохнул и нашарил под матрасом свои носки — стал медленно одеваться. Ваня, сидел, как загипнотизированный. Его рыжая шевелюра слегка колыхалась. Офицер грозно посмотрел на Пермякова:
— Ты Пермяков?
— Я, я гражданин начальник. Я Пермяков, — забормотал Иван.
— Ну, так одевайся, одевайся, что сидишь! — и тут взгляд военного упал на загипсованные руки колхозника. — Помогите, ему кто-нибудь! — рявкнул нквдшник. Попов соскочил со своей кровати и запрыгав на одной ноге — пересел на кровать к Пермякову. Железнодорожник решил помочь парнишке, надеть ботинки. Он натягивал их на ступни — бережно, словно отец ребенку, при этом, приговаривая:
— Ничего Ванюшка, ничего, не бойся, слишком, не бойся! Все нормально будет! Все нормально! Офицер хмыкнул и отвернулся. Павел встал и надев куртку, сурово спросил:
— Нам, что и мыло с зубным порошком забирать?
— Вам же, русским языком сказали — на выход с вещами! Все! Кончились ваши каникулы! Будни начинаются! Выпускной вечер, так сказать! А вернее — утренник! Давай пошевеливайтесь! Сегодня народу много будет! Вам же лучше! Раньше, как говорится — сядешь, раньше — выйдешь! Мать вашу! Троцкисты — шпионисты хреновы! Вредители, грабители, эксплуататоры- губители! Шевелись нечисть антисоветская! Это словно боевая тревога на военном корабле. Десятки ног стучат по железным лестницам и звяканье решеток. Топот сапог и шарканье тапочек по бетонному полу.
Тюрьма, слово страшное, сказочное существо — ожила, в этот ранний, утренний час. В ее чреве зашевелилось, задвигалось людское месиво. Колонны арестантов и тюремщики с ключами. Лай собаки и злые окрики. Движение, движение страшного колдовского замка — с силами тьмы, рабами и чудовищами. Клюфт шел в потоке нескольких арестантов. Сначала их было пятеро. Рядом семенил Ваня Пермяков. Впереди двигались спины еще двух человек. Позади Павел слышал, как шаркают подошвы еще троих узников. Их вывели из соседних камер. Шли молча. Лишь изредка Ваня шептал:
— Куда ведут? А? Паша, куда ведут-то? — хныкал рыжий парнишка.
— А ну, заткись! Морда в пол! Не разговаривать! — рявкал рядом конвоир. Их торопили. Обычно на допросы, так быстро не водят. Шли долго. Сначала спустились на первый этаж тюрьмы, потом, по длинному коридору, гнали в другой конец здания. И опять лестница. Паве успел на повороте обернуться. Где-то метрах в десяти вели еще одну колонну. Человек десять — пятнадцать, усердно топотали им вслед. И опять железный марш. Крутые ступени ведут в подвал. Шаг, еще шаг. В коридоре, вместо привычных, зарешеченных окон, выходящих во внутренний двор тюрьмы — лишь маленькие, едва заметные бойницы, где-то под потолком. Мрачные полуарки сводов фундамента. Красно — коричневые кирпичи сооружения. Овалы и полукруги зависших балок. Строили при Екатерине Великой на века. Сколько узников видели эти стены? А сколько смертей? Кто считал? Подвал. Сразу стало тревожно на душе. Вели явно не в простую камеру. Вели, в какое-то, «особое место». Зачем? Неужели все? Вот сейчас возьмут и выведут в тесный коридор, а затем? Что затем?!!! «Я так хотел умереть! Так. Вот, вот, наверное — смерть. Вот. Она! Она пришла совсем близко. Но прочему, почему я боюсь. Нет. Не хочу. Почему я должен умирать? Нет, я так и не увидел голубого неба! Неужели все! Все? Нет! Почему не дали посмотреть на голубое небо? А? Почему? Почему не дали посмотреть какие сейчас облака? Гады! Они убьют в подвале? Просто пустят пули в затылок? Или как? Как будут расстреливать? Поставят всех к стенке? Выведут солдат и скомандуют — целься, пли, как в книгах? Как в Оводе? Так, красиво умирал, он умирал, красиво! Вывели — целься, пли! Нет, смерть не может быть красивой! Нет! Не хочется! Нет, почему не дали посмотреть на голубое небо! В последний раз? А? Почему голубое небо?» — Павел, вдруг понял — он, в эти, последние секунды, думает о какой-то ерунде! Какая-то «мешанина» мыслей! Вовсе не о том! Не о том, надо думать! «А, о чем, думать, в последнюю минуту? О Вере! О Вере! О Вере! Господи! Помоги! Помоги мне! Как там, там, как? Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня; Цепи ада облегли меня и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал!!!»
— Куда ведут? А? — хныкнул вновь Пермяков и тут же получил удар в бок тяжелым сапогом.
— Скотина!!! Молчать!!!
Павел взглянул на конвоира. Бешеный взгляд! Разъяренное лицо! Молодой парень с короткой стрижкой. Волосы бобрика слегка переливаются в полумраке коридора. Глаза… этот нездоровый блеск глаз! Ненависть и ярость! Безжалостность и презрение! Губы вытянулись стрелами. Ожесточенная гримаса. Он готов убивать! Он готов убить — этот человек! Он готов броситься и разорвать несчастного Пермякова! Просто разорвать! Пинать и топтать! Что бы хрустели кости, что бы слышался нечеловеческий вопль пощады! Эти глаза! Простого паренька, может быть такого же, как и Ваня — бывшего колхозника! Но уже не человека! Монстра в форме! Страшное существо, у которого только одна эмоция — ненависть! Почему, почему он стал таким? Неужели его не кормила мать грудью и не пела ему ласковые колыбельные песни? Неужели, он не бегал, со своими ровесниками, на рассвете, на речку и не слушал — как, кукует кукушка, или долбит дятел в глубине леса. Нет, он ведь все это видел и слышал, он ведь простой и хороший человек. Совсем юный хороший человек! Но он стал таким! Стал зверем! Он готов убить! Просто так — убить беззащитного арестанта! Что с ним сделала система? Как такое произошло — как вообще такое может произойти? А может быть человек сам хочет, что бы он, трансформировался в монстра?! Почувствовать себя злым! Это тоже своего рода наслаждение! Почувствовать себя ужасным и гадким! Попробовать это ощущение — когда тебя бояться и ненавидят окружающие. Когда они трепещут, от каждого, твоего движения и окрика!