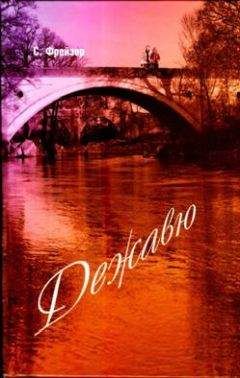Чарльз Фрейзер - Холодная гора
Однако Инман сделал единственное, что мог, — достал «ламет» и выстрелил медвежонку в голову. Лапы медвежонка, обхватывавшие дерево, разжались, и он свалился на землю.
Чтобы не пропадало мясо, Инман развел костер, освежевал медвежонка и слегка отварил. Когда он положил черную шкуру на камень, она оказалась не больше шкурки енота. Пока мясо готовилось, он сидел у самого откоса и ждал, когда наступит утро. Туман развеялся, и теперь он мог видеть горы, выстроившиеся в ряд к далекому краю земли. Тени скользили по склонам ближайших хребтов, падая в долину, как будто стекая в огромное вместилище тьмы под землей. Клочья облаков висели под ногами Инмана, но во всей этой панораме не было ни одной крыши дома, ни струйки дыма из печной трубы, ни расчищенного поля, обозначающих, что это место заселено человеком. При взгляде на этот складчатый ландшафт возникало единственное чувство — весь мир находится там.
Ветер, налетевший на гору, унес запах варившейся медвежатины, оставив лишь запах мокрого камня. Инман мог видеть запад на множество миль — гребни, отроги и утесы до далекого горизонта, перемешанные в беспорядке, серые. Каталучи — название, которое дали чероки, означающее волны гор, затухающих по мере удаления. И в тот день эти волны едва ли можно было отличить от облачного зимнего неба. И то и другое было свинцовым и расцвеченным всеми оттенками серого, так что вид, простирающийся и в вышине, и внизу, был похож на огромную полосу мяса в прожилках. Инман сам был одет как нельзя лучше для того, чтобы спрятаться среди этого мира, — одежда на нем была серой, черной и грязно-белой.
Однако, стоя открыто перед этой панорамой, Инман испытал растущую радость в своем сердце. Он был почти дома; чувствовал это в легком прикосновении воздуха к коже, в своем страстном желании увидеть струйки дыма из домов людей, которые, как он знал, были всей его жизнью. Людей, которых ему не надо было ненавидеть или бояться. Он поднялся и встал в более удобную позу на скале. Стоял и цепко оглядывал огромную панораму, устремив взгляд к одной далекой горе, которая была заметна на фоне неба лишь как слабая черточка бледных чернил, линия тонкая, быстрая и случайная. Но ее очертания постепенно становились все более четкими и безошибочно узнаваемыми. Это была Холодная гора. Он увидел там вдали свою родину.
Изучая пейзаж, Инман сознавал, что линии каждого хребта и долины не просто знакомы ему. Казалось, они давно и неизгладимо начертаны на роговице его глаз каким-то острым инструментом. Он смотрел на эту высокогорную страну и мысленно перебирал названия всех ее уголков. Потом произнес их вслух: хребет Медвежий Хвост, Обозное ущелье, Крутой отрог, Желанный ручей, холм Молот, Каменное Лицо. Не было горы или горного потока без названия. Ни одной безымянной птицы или куста. Это были его родные места.
Инман покачал головой, испытывая при этом совершенно новое ощущение. Его позабавила мысль, что он стоит непривычно вертикально к горизонту. На мгновение ему показалось возможным не всегда быть на виду. Несомненно, в этой изрезанной долинами стране найдется место для человека, желающего спрятаться. Он пойдет, а ветер занесет желтыми листьями его следы, и он скроется от пристального волчьего взгляда огромного мира.
Инман сидел на верхушке утеса и любовался своей родной землей, пока куски медвежатины не сварились. Тогда он обсыпал их мукой, пожарил на остатках топленого жира, который дала ему женщина несколькими днями раньше, и начал есть. Он не пробовал медвежатины с юности: мясо медвежьего детеныша оказалось менее темным и жирным, чем взрослого зверя. Тем не менее Инмана не покидало чувство, что он совершил грех. Он попытался определить — какой именно из семи смертных грехов, и, когда это не удалось, в раскаянии решил добавить восьмой.
Песня не получилась
Если даже та часть горы, по которой они поднимались вверх, и имела свое название, Стоброд его не знал. Как и оба его компаньона, он шел сгорбившись и уныло понурившись; их освещенные рассветом лица осунулись от холода, поля натянутых на уши шляп почти касались кончиков носа, руки были запрятаны в рукавах. Их тени вытянулись перед ними на земле, так что они топтали свое подобие, не замечая ничего вокруг. Голые верхушки конского каштана, серебристые колокольчики, тополя и липы качались под легким ветерком. Многие тысячи мокрых листьев под ногами заглушали их шаги.
Трендель двигался след в след за Стобродом. Третий человек шел в шести шагах позади. Стоброд нес свою скрипку в мешке, зажатом под мышкой. Трендель привязал ремень к ручке банджо и нес его, перекинув через плечо. У их спутника не было никакого музыкального инструмента, лишь скудные пожитки всей компании в вещевом мешке за спиной. Он завернулся в траченное молью засаленное одеяло, которое волочилось одним концом по земле, прокладывая кильватер в упавших листьях.
В животах у них бурчало от ужина, который они съели накануне. Им попалась на глаза примерзшая к земле дохлая самка оленя, и поскольку они сильно изголодались, то решили не думать о том, от чего она умерла и как долго пролежала. Они разожгли дымный маленький костер из мокрых тополиных веток и держали ляжки оленихи над огнем до тех пор, пока те не оттаяли, а потом лишь чуть-чуть обжарили. Мяса они съели совсем немного, но теперь сожалели и об этом. Время от времени один из них молча скрывался в густых зарослях лавра и спустя некоторое время возвращался.
Ни дуновения ветра, ни птичьего пения. Единственный звук, шорох падающих иголок, раздался, когда они проходили под стволами тсуги. Оставшееся от рассвета сияние все еще простиралось бледно-желтым веером на востоке, и тонкие облака быстро неслись мимо еще не разгоревшегося солнца. Сплетенные ветви деревьев темнели словно выгравированные на слабо подсвеченном фоне. Некоторое время на земле вокруг них не встречалось никакого другого цвета, кроме мрачных оттенков коричневого и серого. Потом, проходя мимо обледеневшего каменистого выступа, они заметили растущие на нем желтые кустики ясменника или лишайника, такие яркие, что даже глазам стало больно. Трендель сорвал одну резную веточку и разжевал ее задумчиво и сосредоточенно. Он не выплюнул эту веточку и не сорвал еще, так что неясно было, какое заключение он сделал о ее вкусе. Однако после этого он избегал других подобных даров окружающего мира.
Со временем спутники поднялись к плоской площадке, где три тропы сходились вместе: одна, по которой они пришли, шла снизу, а две другие, еще менее исхоженные, продолжали подниматься вверх. Самое широкое из этих ответвлений начиналось как бизонья тропа, затем превращалось в индейскую тропу, петляющую между деревьями, но по-прежнему было слишком узким, чтобы по нему могла проехать телега. Охотники когда-то стояли здесь лагерем, оставив четкий круг от костра, и срубили деревья вокруг него, заготавливая дрова, так что лес примерно на пятьдесят шагов от развилки поредел. Однако один огромный тополь стоял в самом центре разветвления троп. Его не тронули из-за красоты, или из-за огромной толщины, или из-за возраста. А может, в ближайшем поселении не нашлось достаточно длинной пилы, чтобы его спилить. Ствол дерева на уровне земли в обхвате был величиной с амбар для хранения кукурузы.
Стоброд остановился, чтобы осмотреться, смутно припоминая, что это место ему знакомо. Трендель, продолжая идти, наступил на задник его башмака, который свалился с ноги, оставив Стоброда в одном носке на мерзлых листьях. Тот повернулся, толкнул парня в грудь, отодвинул его на шаг назад и, положив мешок со скрипкой на землю, наклонился, чтобы переобуться.
Мужчины стояли, тяжело дыша после трудного восхождения, и смотрели на две тропы, которые тянулись вверх перед ними. Пар от их дыхания висел вокруг, как будто заинтересовавшись чем-то, потом эти неясные облачка теряли к ним интерес и исчезали. Где-то поблизости среди камней бежал ручей, производя единственный звук в пределах слышимости.
— Холодно, — сказал третий спутник.
Стоброд посмотрел на него, прочистил горло и сплюнул в знак своего отношения к этому оголенному месту, не предоставляющему достаточного обзора.
Трендель вытянул руку из рукава, повернул ее ладонью вверх к природным стихиям, затем сжал в кулак и снова спрятал в рукаве, как черепаха прячет свою голову.
— А-а, Господи, укрой ты нас, грешных, в своем чреве, — сказал он.
— Точно, — сказал третий спутник.
Этого человека они впервые увидели в пещере дезертиров. Он не назвал своего имени, да Стоброд и не очень интересовался, как его зовут. Этому парню родом из Джорджии было не больше семнадцати, он был черноволосый, со смуглой кожей, маленькими бакенбардами, но с гладкими, как у девушки, щеками. Явно с примесью индейской крови — чероки, а может быть, крик. Как и все, он был дезертиром. Они вместе с его двоюродным братом были жалкими молоденькими призывниками, их взяли в армию в шестьдесят третьем. Они около года воевали в одном полку, хотя от них было мало проку, поскольку их старые ружья стоили чуть больше, чем их шляпы. Они спали под одним одеялом и вместе сбежали, рассудив, что ни одна война не продолжается вечно, и, хотя человек рождается, чтобы умереть, глупо отправиться на тот свет накануне мира. Итак, они бежали. Но путь домой был длинным и путаным, они даже не предполагали, что им придется прошагать столько миль. Потребовалось три месяца, чтобы добраться до Холодной горы. Они не знали, в каком штате оказались, и стали плутать по горам. Его брат заболел и, надрываясь от кашля, умер в горячке в одной мрачной пещере.