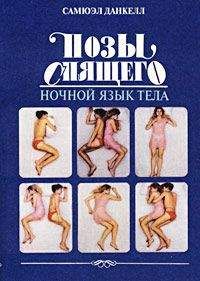Эмиль Айзенштрак - Диспансер: Страсти и покаяния главного врача
А мы дальше конкретизируем. Например, на домах номера действительно нужны, но значат они только то, что обозначают. Они помогут войти в нужную дверь, но ничего не скажут нам о жильцах, об их взаимоотношениях, о положении на коммунальной кухне и в коридорах, об интимах, дураках и о привидениях, о тоске, торжестве и раскаянии, о бесчисленных переливах полутонов, запахов, воспарений и склок. Такие вещи показателями не оценить. И любовь нельзя в баллах, и ненависть, и ревность, и болезнь, конечно, и врачевание… Их отмерить нельзя, их измерить нельзя, потому что они бесконечны, перевернутая восьмерка, вот так: ∞ А меры и весы конечны, и потому они здесь бессмысленны, если измерять и — оценивать в целом. Но внутри категории можно выслоить элементы, которые сами конечны или даже однозначны. Вот эти поддаются измерению. Однозначные — одной меркой, двухмерные — двумя, десятимерные — десятью, а бесконечное мерить нельзя — оно безмерно. Здесь важно не соскользнуть, границу себе уяснить и усвоить, а ведь иные специально соскальзывают, на это еще А. К. Толстой внимание обратил:
Что не можно ни взвесить, ни смерети,
То, кричат они, надо похерити.
И манеры у них дубоватые,
И ученье-то их грязноватое.
И на этих людей,
Государь Пантелей,
Палки ты не жалей суковатые.
Подвижность тазового дна у женщин выявляется за счет таких «божественных» факторов, как субъективные ощущения гинеколога, помноженные на его тонкое мышечное чувство, индивидуальный опыт, квалификацию. Но мы это разом и спокойно формализуем, ибо тазовое дно колеблется не бесконечно, а в пределах, в сантиметрах — однозначно: измеряй на здоровье.
Текст хорошо ложится на бумагу, доклад получился. Директор доволен. Уже поздно. Едем к нему. Наш бредо-день заканчивается. Садимся в машину, шофер включает музыку. Проникновенный баритон сладкой патокой нам:
А любовь, а любовь
Золотая лестница:
Золотая лестница
Без перил!
Сидоренко, поворачивая свое уже завяленное лицо:
— Где-то есть еще золотая лестница… ты слышишь?
Потом чай на кухне, и сами моем стаканы — жены у него нет. Мы обсуждаем предстоящую коллегию, кое-какие наметки, планы. Ложимся спать, опять переговариваемся, проваливаемся, просыпаемся, снова говорим и засыпаем уже окончательно. Я просыпаюсь от шороха. Время к утру, но за окном еще темень. Директор уже одет, стилизованной метелкой элегантно и быстро он загоняет мусор в широкий пластмассовый совок. Надо бы встать, принять участие, но тело укрепилось в теплом коконе одеяла и, ах, не хочет и не может вылезти наружу. «Очень рано, очень рано, — бормочет внутренний голос, — тепло — это благо… спать и спать…»
Железная дорога недалеко, слышен трубный глас одинокого электровоза.
Кудрявая, что ж ты не рада
Веселому пенью гудка?
Вставай, вставай, кудрявая!
Но я потягиваюсь, закрываю глаза. Сон уже вполовину, теперь это полусон, дремота, все равно скоро вставать. В 7.15 директор будет у себя в кабинете. В 7.00 за ним придет машина. Сейчас 6.15. У него сорок пять свободных минут. Он сидит на жестком деревянном кресле за письменным столом под металлическим абажуром. Резким сектором света он отсечен от окружающей тьмы. В руках у него томик Гете. Он читает. Новый день впереди, новые маски…
Впрочем, не только по минутам надо эти маски менять: иной маскарад — на годы. И тогда это уже не маска, а поза или даже позиция, которую определяет, к примеру, личность твоего начальника.
Моя первая заведующая здравотделом Елена Сергеевна Корнеева была женщина милая, любила парикмахерские и торжественные приемы. Тогда это было модно. В суть дела она откровенно и по-доброму не влезала. Вреда никому не причиняла, а главное — не мешала. При ней работать было удобно, и, кстати, сделано было очень много. По правилам ее игры я был удачлив, остроумен, беспечен, все у меня шло как бы само собой, скорее не от усердия, а от большой хватки и таланта. В страданиях и муках возводился мой диспансер, но я рапортовал бодро, шутейно, и всем становилось ясно, как это легко и весело, даже забавно. Еще я был себе на уме, иной раз мог и тру-ля-ля сделать, тир-лим-бом-бом, но мне прощалось, и было за что, и только пальчиком, ха-ха погрозить… Маска-игра была совсем нетрудная, даже отрадная, как отдых-переключение. А ведь еще умела она и защиту сделать, и прикрывала в минуту трудную, и порядочный, без примесей была человек. С почтением и любовью я вспоминаю о ней. Такую бы маску — всем и каждому в добрый час!
… Еще один заведующий — Михаил Тихонович Корабельников, в миру — Михтих. И был он эрудит, легочный хирург, остроумец и анекдотчик, однако же и сам поначалу реформами грезил. Думал, что ему суждено, что у него именно и получится, что на месте сем, за письменным-то столом, как с мостика капитанского, развернет он корабль наш из мелководных речушек местных в широкое окиян-море: людей посмотреть и себя показать. (Ах, ничего из этого не выйдет, и уйдет он, как и остальные все, и тоже будут считать, что развалил он дело.)
Ну ладно, это судьба, и все еще впереди. А нам — к новому начальству пока привыкать и прилаживаться. И нету времени для разбега: вот он — в кресле уже сидит. В его биографии есть страшный корень: на войне он был узником лагеря смерти — мимо газовых печей, по краешку, и потом еще разное. Но это прошлое. А сейчас он — оратор-Цицерон, и с трибуны, и в компании. Он разный, у него намешано. Он лидер: и фигурой, и лицом, и голосом, и жестом. Осторожен, безрассуден, устремлен и капризен. Читал Горация и Эпикура, цитирует Книгу Вед, русскую классику — наизусть, историю Европы — глубоко, каждую страну в отдельности, в курсе международных событий, помнит сотни имен и фактов, и вообще все, что понадобится. В его мозгах громадные залежи знаний, но свалены они без учета и контроля. А свое превосходство над другими людьми чувствует, понимает, любит задирать в разговоре. Он говорит мне:
— Вы мизантроп, может быть, не столь ярый и яркий, как NN но все же…
Иронизирует:
— И печаль ваша не от мировой скорби, а от неправильного обмена, несварения желудка, в общем — местного значения.
И уже наставительно, с оттенком сожаления:
— Главный врач — это орел, крыло мощное, осанка! А вы…
— А я?
— А вы Достоевского любите…
— И вам бы не мешало…
— Увольте, увольте. Больной старик. У него эпилепсия, вы же знаете. А что с эпилептика? Рефлектирует, вязнет…
— Эпилепсия — мелочь, у Мусоргского куда хуже — шизофрения, Чайковский — гомосексуалист, Есенин — алкоголик. Да разве об этом речь? Вот и Достоевский — не истории его болезни и не эпикризы его нам читать, а «Братьев Карамазовых», «Идиота» и «Бесов» — там главное.
— Что главное?
— Совесть!
— Совесть?
— Да, конечно, совесть, разумеется.
С этого слова, надо сказать, заварились наши с ним отношения, поначалу далеко не безоблачные. А было это давно, много лет назад, задолго до его нынешней инаугурации в Должность. Тогда он собирался разгромить меня на одном важном форуме. В те годы я не обладал ни связями, ни авторитетом, а у него они были, и еще он — великий оратор, а те, кто слушали, опять не ведали, смысла не различали и полагались исключительно на слух. Конкретно — он хотел ликвидировать диспансер, присоединить его отделением в городскую больницу, поскольку нет у нас кухни собственной и пищу получаем из диетической столовой. И значит, если кормим неправедно, то и лечим неправильно. У него, я представляю, как это железно состыковано было, как образно и ярко подано, с каким перчиком, и что за подлива там была! Ах, сроки еще исполнятся. Это потом, спустя пять лет, признают, что наш метод кормления и есть самый передовой, и даже постановление специальное выйдет, но только это еще лет через пять будет, а сегодня он готовит мой разгром.
— Вы зачем это делаете? — я спросил.
— А мне такая-то и такая-то моя совесть подсказывает.
— К совести не надо прилагательных, — сказал я, — совесть есть совесть, лишь бы она была…
— Откуда вы это взяли?
— Из Достоевского.
— Ах, Достоевский, так это же больной старик, эпилептик, вы же знаете. Самоанализ психопата, проза туманная — рефлектирует, и тоска, тоска, стиль тяжелый, язык…
И все же он тогда на том форуме не выступил против меня: его шеф Лев Семенович Резник сделал ему предварительно руководящее внушение, и он отвязался от меня. Я отделался выговором. С тех пор мы встречались натянуто, сталкивались, говорили якобы о литературе, но сами знали о чем. Мне его приход на должность ничего хорошо не сулил. Между тем Михаил Тихонович взялся рьяно. Он уже произвел кое-какие кадровые изменения, и я ждал своего часа. Меня, однако, не тронул. Инкогнито приехал в диспансер, Гарун-аль-Рашидом прошелся по всем закоулкам, потом вызвал меня, дал указания. Говорил насмешливо и вежливо.