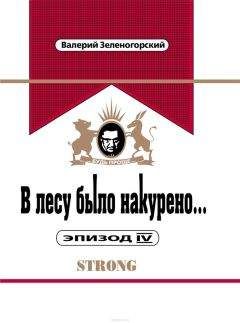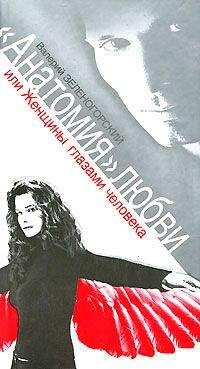Мой «Фейсбук» - Зеленогорский Валерий Владимирович
Мальчик с утра принял душ, хорошо покушал и был в отличном настроении, поэтому я решил, что сажать эту дрянь в тюрьму не буду, гуманизм у меня в крови, так нас воспитали.
А потом я посмотрел его свежие записи «ВКонтакте», он написал о случившемся пост, все его френды завидовали и просили адрес насильницы.
Мальчик мой ушел к репетитору, я дверь за ним запер и стал вспоминать свой первый опыт в далеком одна тысяча девятьсот шестьдесят третьем году.
Было мне от роду осьмнадцать лет, и я разрывался между двумя дамами: одна была кассиршей в наших «Продуктах», вторая — лаборанткой в институте на Сущевской улице.
Оба проекта не давали результата, а люди из нашей секции по настольному теннису уже хвастались, что их тела уже обрели половую зрелость. Я сходил с ума, причиной моих неудач было отсутствие места для исполнения задуманного: у кассирши была съемная койка в общаге, а лаборантка была из многодетной семьи, половина которой спала на полу.
И тогда я решился осквернить наше родовое гнездо; в рабочий день, когда все ушли, ко мне в свой обеденный перерыв пришла кассирша, я ждал ее в диком ознобе, еще с дверей пошел на амбразуру без артподготовки, жалкие кассиршины одежды валялись по всему коридору, от входной двери до спальни… Но внезапно позвонили в дверь, это папа пришел на незапланированный обед и отчего-то не сумел открыть замок.
Я не открывал, поэтому папа спустился во двор и стал звонить на домашний телефон; кассирша торопливо одевалась, а я обеспечивал ей отход своим жалким, якобы сонным лепетанием в трубку; она выскочила на лестничную площадку, обогнав папу на считаные секунды.
Папа вошел и прошел в спальню, пытаясь найти следы; он был опытным человеком, видимо, сам не раз инсценировал сон без задних ног. И на своей подушке он нашел чулок кассирши; я сказал, что мама собиралась второпях на работу, и сунул его себе в карман, папа ничего не сказал, но еще целый год мне пришлось ждать, чтобы сошлись надлежащим образом все звезды. Так драматично я расставался со своим детством.
Все вышло в итоге буднично. В молодежном лагере в Анапе одна толстая девочка со второго курса притворилась пьяной, и мы с ней доехали до станции любви почти одновременно; то, о чем я мечтал, оказалось набором хаотических движений, как сказал Иммануил Кант, и только в этом я с ним согласен.
Когда такое происходит в собственном доме, тут не до Америки. Так что свою американскую трагедию я опишу Вам завтра.
Тринадцатое письмо Анне Чепмен
С внуком, Анечка, слава богу, обошлось, ничего не повредила мальчику педофилка; жаль, что химическую кастрацию не узаконили, а так бы я ей устроил… Ну ладно, вернемся в Америку, где мое внедрение шло как по маслу, не вологодскому, как Вы понимаете…
Продолжал я жить у Раи с Семой, по гостям ходил, клеветал на Советскую власть и получал за это свои тридцать сребродолларов, но не тратил, копил на подарки Розе и своему руководству.
Сема в рейсы ездил, а когда приезжал, садился писать докторскую диссертацию о преимуществах социалистической системы.
Я спросил его как-то после ужина: зачем тебе диссертация докторская, Семен, ведь ты в Америке живешь, уважаемый человек — дальнобойщик, дом полная чаша, где ты ее защищать будешь, в Гарварде или в Итоне? — спросил так, для шутки юмора.
Сема посмотрел на меня — так посмотрел, как якобы смотрел Ленин на буржуазию, и сказал торжественно: «Придет время, Советский Союз рухнет, — это он сказал в 1975 году, заметьте, мне лично, он первый предсказал, а не Ванга — мошенница, слепая была, а мужа у сестры увела, недавно по НТВ показывали, слепая, а разглядела, что плохо лежит; так вот, продолжил Семен: — В новой России понадобятся новые люди, и мы вернемся и построим капитализм с человеческим лицом». — Я чуть не обомлел от такой бесценной информации, хотел в посольство наше бежать, но ночь на дворе была.
И он оказался прав, он вернулся и сейчас работает в правительстве, как в воду смотрел; но до этих пор еще дожить надо было, ну а с каким лицом наш капитализм, Вы, надеюсь, сами теперь видите: хари такие, один другого хуже.
Сема меня часто к своим друзьям водил, люди разные вокруг него были, конечно, они — предатели, а за стол с ними сядешь — и вроде люди симпатичные, пельмени кушают, хинкали, поют песни советских композиторов и плачут потом, вспомнив свои палестины, в смысле Одессу, Киев и другие города нашей необъятной Родины.
Я недоумевал поначалу, скажу честно: такие муки терпеть с отъездом, а приехав в Штаты — водку жрать с селедкой и песни петь русские.
Если вам Америка так дорога, так жрите френч-фрайз и пойте Боба Дилана — нет, черный хлеб им подавай, колбасу краковскую и песни про Родину, «которая щедро поила березовым соком».
Я им пьяный не раз говорил: колу вам надо пить, ребята, березовый сок остался там, на том берегу, нет у вас Родины, английский учите, нефиг уезжать было.
Но это я так, зондировал их, проверял окружение провокационными разговорами и однажды перестарался — по харе получил от Петрова, который когда-то сбежал в порту Пусан с рыболовного траулера, где был замполитом, и после года мытарств и проверок оказался на американской земле. Решил я как-то подарок себе присмотреть на день своего рождения, в первый праздник свой на чужбине. Тогда мечтой каждого советского гражданина был двухкассетник, и эта мечта у меня осуществилась как раз через Петрова.
Он работал электриком в немецком супермаркете; мы с Семеном приехали в тот супермаркет средь бела дня, Сема объяснил Петрову про меня и двухкассетник, электрик кивнул и сунул что-то в щиток. Свет в магазине потух, потом включилось автономное электроснабжение, а Петров сказал хозяину, что надо купить новую деталь, и мы втроем поехали к неграм покупать мою мечту.
Приехали на какой-то склад, и там петровские знакомые негры уступили мне за полцены отличный аппарат и даже дали в придачу кассет со своей музыкой; музыка мне, правда, не понравилась, ерунда какая-то наркоманская.
Потом мы с Семой поехали домой; Рая была в салоне, Семен сварил борщ, мы выпили, и Сеня меня угостил травой. Я никогда не пробовал, а тут соблазнился — для полного погружения в местные условия. После косяка мне так хорошо стало, как на сельскохозяйственных работах в Коломенском районе Подмосковья в шестьдесят шестом году.
Я был молодым специалистом, а Либерман уже заведовал сектором, и мы поехали в колхоз сено ворошить.
Там девушка одна была из парткабинета — рыжая, сдобная, незамужняя, Катей ее звали; я уже женат был на Розе, но свежий воздух, труд необременительный и натуральные продукты в сочетании с портвейном по вечерам разорвали мою лебединую верность Розе, как парус из песни Владимира Семеновича. В первый раз, но я, в отличие от Высоцкого, не каюсь.
Увлекся я Катей не на шутку, особенно любил ее на машину подсаживать и со стога снимать — она падала на меня всем своим жарким телом, и мне было сладко, как в фильме «Тихий Дон», — сцена одна оттуда все время в глазах моих стоит, как Гришка Мелихов с Быстрицкой в сене лежит, а она его щекочет травой полевой… В общем, у нас с ней все шло неплохо, но вмешался Либерман, стал к ней тоже свои яйца подкатывать, и понеслось между мною и этой гидрой по фамилии Либерман соцсоревнование за обладание моей Катей.
Вечером, после работы, мы ужинали в школе на террасе для младших школьников — портвейн «777», макароны по-флотски; а потом гуляли втроем: мы бидон несем (за молоком ходили на ферму) и стихи ей читаем — он Сашу Черного, я — Андрея Белого, — а она головой крутит, то ко мне, то к Либерману.
Потом мы ее провожаем и стоим возле ее дома, и каждый ждет, когда другой с дистанции сойдет, а она никого не выделяла; преимущество первых дней я вскоре растерял по вине Либермана, он рассказал Кате, что я женат, и она, как член партии, перестала разрешать трогать ее за спелую грудь и отодвигала свой теплый бок во время обеденного перерыва, теперь Либерман ее подсаживал на высокий борт колхозного трактора, а я только снимал ее со стога, и то — вытянутыми руками, на пионерском расстоянии.