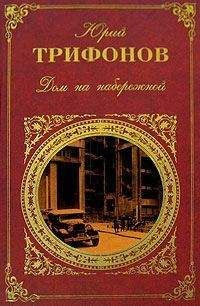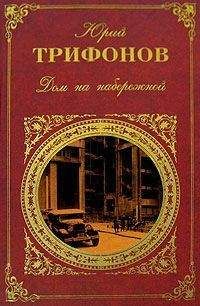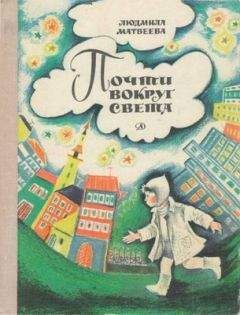Юрий Трифонов - Время и место
В начале сорок шестого года к Антипову приехала мать, которой он не видел восемь лет. Когда они расстались, ему было двенадцать, он был толстенький, кудрявый, дома ходил в бархатных коротких штанах, очков не носил, хотя был близорук, в классе сидел за первой партой, указательным пальцем часто оттягивал кожу возле угла левого глаза, отчего глаз сощуривался и видел немного лучше, а теперь Антипову было двадцать, он был студент второго курса, худой, с широкими костлявыми плечами, носил очки в некрасивой красно-коричневой оправе, про которую сестра говорила, что она «тараканьего цвета», дома ходил в чем попало, в обносках лыжного костюма из ржавой фланели, в стариковских шлепанцах; и когда в десять часов вечера мать позвонила в квартиру на шестом этаже незнакомого дома — во время ее отсутствия дети переселились из прежней квартиры сюда, на окраину, — и с колотящимся сердцем прислушивалась к шлепающим шагам в коридоре, которые показались шагами старика, испугалась, о старике никто в письмах ничего не писал, и вдруг дверь, щелкнув замком, отворилась, она увидела в полутемном коридоре высокую очкастую фигуру мужчины, отшатнулась и ахнула: «Шурка?» — а Антипов увидел маленькую женщину в ватнике, в платке, с чемоданчиком, сиротливо обшитым холстом, возле ее ног на полу, секунду глядел на женщину молча, потом протянул руки и сказал: «Мама?» И в их слабых вскриках прозвучал вопросительный тон, но не потому, что не узнали друг друга, хотя не узнать было немудрено, а потому, что мгновенным порывом было спросить: как было то? Как это? И как все за эти восемь лет? И можно ли, боже мой, наконец, в самом-то деле, можно ли верить глазам, рукам и губам? Мать почувствовала, что от сына пахнет табаком, а сын заметил, что лицо и одежда матери пропитаны паровозной гарью.
Мать ехала до Москвы шесть суток. Вот об этом она и рассказывала, когда сели пить чай вместе с сестрой Людмилой и Фаиной, женой брата матери, который лечился в госпитале после тяжелого ранения, а Фаина с маленькой Леночкой жила с Антиповыми в одной комнате коммунальной квартиры. Конечно, было бы лучше пить чай без Фаины, потому что у Антипова, и особенно у сестры, отношения с Фаиной за последний год испортились, но деться было некуда, а на кухне одна из соседок, Околелова, устроила глажку и заняла стол. Фаина вела себя смирно и выказала искреннюю радость, увидев мать Антипова, которую знала по рассказам, поцеловала ее, даже всплакнула, а Людмила глядела на мать странным, испуганно-ошеломленным взглядом и не могла говорить от волнения. Они должны были пересказать друг другу такие горы дней, такое множество встреч, испытаний, страданий, счастливых минут, что это казалось непосильным делом, не стоит и браться, и они бессознательно — так было легче — начали с самого простого, с того, что случилось вчера и позавчера. Они как бы откинули навсегда минувшее, то, что состарило мать, превратило сестру в сутулую плаксивую тетку, а Антипова сделало взрослым человеком, и, смеясь, рассказывали о вчерашних пустяках: о том, как сестра ездила в Вешняки на смежное предприятие, перепутала накладные, потому что весь день высчитывала, когда придет поезд, выходило, что завтра утром, начальница сделала ей выговор, и о том, как Антипов убежал с лекции, чтобы посидеть над рассказом, надо его переделать и переписать, скоро он должен читать на семинаре Киянова, это очень ответственно.
А мать рассказала о том, что случилось с нею в поезде: она лежала на верхней полке, внизу двое мужчин, один, военный, как-то косо посматривал, и матери казалось, что он догадывается, откуда она едет. Она с ним не заговаривала. Внезапным толчком среди ночи поезд остановился. Мать проснулась и вдруг поняла, что это она остановила поезд — случайно во сне сорвала ручку тормоза. Люди в вагоне просыпались, гомонили, спрашивали: в чем дело? Почему стоим? Поезд стоял в непроглядной тьме. По коридору быстрыми шагами кто-то шел, хлопали двери, резкий голос спрашивал: «В вашем купе? Здесь?» Мать в один миг со смертельной ясностью представила себе: обнаружат сорванный кран, потребуют документы, а ее главные документы хотя и в порядке, но разрешение на въезд в Москву не оформлено до конца, мать не поехала в областной город, где нужно было получить подпись начальника областного управления, без которой разрешение не вполне действительно, оно действительно при добром отношении и недействительно при казенном, при злом, а тут как раз могло проявиться злое, потому что люди озлобляются, когда непредвиденная остановка замедляет путь домой, но мать была невиновна, она не могла поехать в областной центр за подписью, потому что пропустила бы этот поезд, пришлось бы ждать еще две недели, что было свыше человеческих сил, и она рискнула, не будучи рисковым и очень храбрым человеком, просто не могла ждать, и вот теперь из-за нелепой случайности ее задержат, увидят неправильно оформленное разрешение и отдадут под суд. За самовольную остановку поезда полагается от одного до пяти лет тюрьмы. Нет, подумала мать, я ничего не выдержу больше. Я умру здесь, в вагоне, у меня разорвется сердце. Открылась дверь купе, и начальство в черном картузе просунуло голову: «У вас тут что?» Военный взглянул на мать сурово, посмотрел на начальника в черном картузе и ответил: «У нас нормально. Все спали». Дверь захлопнулась. Начальник ушел. Мать лежала ни жива ни мертва. Военный погасил свет в купе, и жизнь продолжалась. Антипов подумал: из этого можно сделать рассказ. Фаина что-то спрашивала, как обычно, глупое, насчет военного — к какому роду войск он принадлежал? — а Антипов уже размышлял, проектировал, что тут изменить, что оставить. Выходило так, что рассказ не получится. Это становилось болезнью, он жил теперь, последние года полтора, какой-то двойной жизнью: все, что случалось с ним, с его друзьями, с далекими знакомыми, о которых он узнавал понаслышке, окружал загадочный ореол возможного воплощения. Надо было этот ореол увидеть и тайный смысл разгадать. Не все годилось для воплощения, но все должно было подвергаться моментальной проверке; как феноменальный счетчик Араго, который, едва завидя цифры, тут же невольно начинал производить в уме математические действия, так и он тотчас почти бессознательно принимался отгадывать и примерять. Для того чтобы скоропалительные догадки и летучие соображения не испарялись, он завел записную книжку — Борис Георгиевич говорил о пользе записных книжек — и заносил туда мысли, словечки, сравнения, анекдоты. Кто-то поразил Антипова, заявив, что для прозы нужны анекдоты. Великий роман можно свести к анекдоту. Надо собирать все подряд, все глупости, дурацкие истории, чепуху, авось пригодится. Он не расставался с книжечкой ни днем, ни ночью, делал записи на лекциях, в метро, в троллейбусах, в пивном баре; однажды его задержали и потребовали предъявить документы, потому что он записывал в метро, а рядом сидели двое, ведшие всю дорогу какой-то неясный разговор, они-то и заподозрили Антипова.