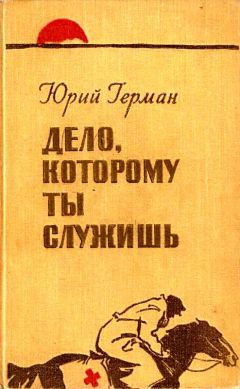Юрий Герман - Дело, которому ты служишь
— Тиф! — сказал он своим бабьим, тонким голосом, — Смотри, Алевтина, как бы он тут вшей не напустил, погубит и тебя, и твоего Женьку.
Бывшая горничная смотрела на доктора грустно. На всякий случай, чтобы смягчить грубость своих слов, Густав Альфредович сделал Женьке «козу» и, пободав пальцами в воздухе, добавил:
— Чего только не приходится переносить народу-страдальцу!
В это мгновение взгляд доктора упал на сигары.
— Вот уж это я приберу, — сказал он торопливо. — Это комиссарам совершенно даже не нужно.
— Нужно! — донесся с дивана жесткий, хоть и слабый, голос Степанова. — А вот тебя, буржуйская морда, не нужно!
И, обратившись к Алевтине, комиссар приказал:
— Гони его, дама, в шею!
Наверное, потому, что соображал Родион Мефодиевич слабо, он сказал еще несколько скоромных слов, от которых фон Паппе пришел в смятение и сбежал, Алевтина же была командирована комиссаром в комендатуру вокзала для того, чтобы дали ей там причитающийся паек, прислали «дельного доктора» и чтобы «помогли по малости», как выразился Степанов. «Не помирать же, в самом деле, чего зря!»
— Нецелесообразно с точки зрения мировой революции, — сказал тихим, но в то же время твердым голосом комиссар. — Так там и передайте, дама, дескать, нецелесообразно. Соображаете?
Алевтина все не двигалась.
— Значит — саботаж? — спросил Степанов. — Учтите в мозгах: околею — с вас взыщут.
— Да я пойду, — ответила Алевтина, — только вы как здесь?
Комиссар усмехнулся и велел:
— Слушай стих про нашего брата!
Она, подавленная этим человеком, испуганно присела на край кресла, а он на память прочитал:
Герои, скитальцы морей, альбатросы,
Застольные гости громовых пиров,
Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песнь огневая рубиновых слов.
И спросил:
— Ясненько вам, дама?
Глаза у него смеялись.
Алевтина с ребенком на руках отправилась в дальний путь. Часа через два к комиссару прибыла целая делегация — все это были прокопченные, измученные, но странно веселые люди. И, несмотря на то, что все они говорили слова, от которых Алевтина отвыкла в доме Гоголевых, люди эти показались ей неожиданно близкими и очень славными, особенно пожилая женщина в косынке сестры милосердия, в морщинах, с грубыми, узловатыми мужицкими руками.
— Вдовеешь, что ли? — спросила она Алевтину.
Та опустила глаза.
— Ну, тогда и того горше, — сказала пожилая женщина. — Но только слезы, товарищ, не проливай. Теперь эти времена кончились, теперь всенародную поддержку ты будешь иметь…
Все здесь было странно, необычно, неожиданно: то, что раньше казалось таким постыдным и унизительным, имело вдруг всенародную поддержку, то, что старуха назвала Алевтину «товарищем», то, что люди, которых она про себя называла «хамами», а Гоголев «быдлом», были с ней вежливыми и даже пригласили ее вместе с ними «покушать» супа из конины с пшеном, — все это как-то мгновенно преобразило и изменило для Алевтины жизнь. Она стала ходить увереннее, больше не опускала глаз, не стыдилась того, что у нее нет и не было мужа.
Комиссар поправлялся быстро.
Алевтина открыла тайную кладовку, достала оттуда постельное белье, продала старинную фарфоровую люстру, купила продуктов, даже кусок сала, который в Петрограде называли шпиком. А когда Степанов уж очень зарос бородой, она, немного посомневавшись, достала из желтого, английской кожи несессера сбежавшего хозяина семь великолепных бритв с обозначением на каждой дня недели: понедельник, вторник и так далее.
— Зачем же ему, дьяволу, семь бритв нужно было? — поразился Степанов.
— «Металл должен отдыхать!» — повторила Алевтина фразу Гоголева. — Поэтому для каждого дня своя бритва.
— Ну и сукины же дети! — весело выругался комиссар.
Бритву с надписью «воскресенье» он оставил себе, а остальные роздал своим товарищам.
— Вы права не имеете! — взвизгнула Алевтина. — Они не ваши, приедет Борис Виссарионович!
— А зачем ему приезжать? — спокойно возразил Степанов.
— Это его бритвы!
— Одну, верно, можно было для него и оставить, а семь много, — рассудил Родион Мефодиевич. — Сейчас, дамочка, это все принадлежит народу. И кудахтать ни к чему.
— Все равно Борис Виссарионович вам задаст.
— А может, я ему задам?
И опять глаза у него смеялись.
Раздумывая о чем-то своем, он подолгу напевал:
Чуть дрожит вдоль коридора
Огонек сторожевой,
И звенит о шпору шпорой,
Жить скучая, часовой…
— Вы и в тюрьме содержались? — спросила однажды Алевтина.
— Нет, гражданка, в тюрьме мне содержаться не пришлось, разве что содержался я в тюрьме народов, именуемой Российская империя.
Алевтина не поняла, но на всякий случай сочувственно вздохнула. К Борису Виссарионовичу в свое время, бывало, наведывались какие-то бородатые, косматые, очень много говорившие господа, про которых супруга присяжного поверенного выражалась в том смысле, что они «мученики за народ». Потом некоторое время эти мученики ходили во френчах, в крагах, ездили в автомобилях и вместе с Гоголевым исчезли. Ничего нельзя было понять. Но все более и более долгими взглядами всматривалась Алевтина в своего комиссара, все дольше разговаривала с ним, все внимательнее вслушивалась в его отрывистые рассказы. И сама порой замечала на себе пристальный взгляд Родиона Мефодиевича.
Едва поднявшись на ноги, Степанов приказал Алевтине открыть все тайники гоголевской квартиры. Алевтина зарыдала, заревел и маленький Женька.
— Я не для себя, — угрюмо произнес Родион Мефодиевич. — Я от себя и от тебя. Реквизировать надобно, а не продавать потихоньку.
Алевтина зарыдала громче. Так рыдать она научилась от супруги Гоголева — Виктории Львовны. И Женька вторил ей во всю свою маленькую силу, но довольно-таки пронзительно. И все же Степанов произвел реквизицию по всем правилам. Мусоля химический карандаш, написал список «буржуазных излишков бывшего гражданина Гоголева» и сургучной печатью, принадлежавшей Борису Виссарионовичу, его же сургучом опечатал все сундуки, кофры, шкафы, кладовки и тайники.
— Сумасшедший вы какой-то! — произнесла Алевтина, все еще всхлипывая. — Могли бы пользоваться и пользоваться!
— Я не сумасшедший, а революционный моряк! — наставительно произнес Родион. — Мы вашего Николашку не для того свергли, чтобы самим пользоваться втихую. Мы его ради всего народа свергали… А люстру я, между прочим, записал как проданную в целях поправления моего от тифа.